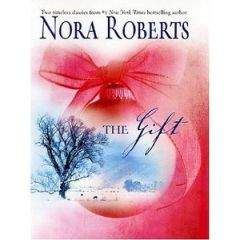Лора Белоиван - Чемоданный роман
— Вот это что такое, а?
— Утюг отлетел, — сказал Гришаня. — Я его за провод крутил, а он оборвался. Но я ж тебе новый вот принес.
— За каким хуем ты крутил утюг, Гриша?! — возопила я. — За каким хуем, скажи мне!!!
Ответ Гришани упал на мой мозг тяжестью почившего утюга:
— А чего она лезла… Приставала ко мне, как эта… как блядь.
— Это еще не причина женщину утюгом бить, — по инерции сказала я, начиная безнадежно обалдевать.
— Я и не бил, — молвил Гришаня, — я только крутил, чтоб она не подходила. И так по всей квартире гонялась. А утюг оторвался когда, то сперва в стену, а потом в нее попал. А что, сильно ударило?
Я стала стекать на пол, а по дороге вспоминала синий профиль Савеловой, представляя, что было б, если б утюг оторвался сперва ей в башку, и только потом — в стену.
Мозг наконец вместил всю ситуацию, и она кое-как расположилась на полочках моей головы. На самом деле все было очень просто: дура-Савелова до последнего думала, что Гришаня, скачущий от нее по столам и люстрам, шутит и веселится — правда, немного перебарщивает, ну и что.
— Блядь, — это было единственное, что я могла сказать.
— Ну да, я ж и говорю — блядь, — подтвердил Гришаня.
— Заткнись, — попросила я.
Не то чтоб я отказала ему от дома. Вовсе нет. Просто вскоре у Гришани истек срок контракта, и он пришел ко мне советоваться, стоит ли заключать новый или лучше ехать домой. Я посоветовала второй вариант, и Гришаня уехал.
И слава богу. Честно говоря, надоел он мне действительно ужасно. Вдобавок этот его идиотский пунктик про брачную ночь — это ж с ума сойти. Человека вон чуть не убил, невинность свою оберегая. Я ему все-таки сказала тогда:
— Знаешь, — говорю, — Гриша. По-моему, как-то некрасиво получилось. По-моему, если женщина тебя так… ээээ… хочет, не надо сопротивляться. В конце концов, — говорю, — женщина может обидеться…
— Она дура, — сказал Гришаня. — Я ей замуж предлагал, а она так хотела.
Кажется, я тогда опять сползла на пол, хотя точно уже не помню: может, и не сползла.
Заболевая после японской поэзии и заботливо укутывая себя в тряпочки, я захватила с собой на диван чтиво, едва не доконавшее меня. Это была книга о Запретных Мохнатках: «Роман о моряках-дальневосточниках, им же с любовью посвящается», — было написано между картоном обложки и собственно Мохнатками. Слово «бичхол» в романе фигурировало как «Бичхолл», и чистая, без эротики, любовь к морякам чуть не убила меня. Запретная Мохнатка стала настоящей победой над Эросом, чей нефритовый стебель сник, увял и почти рассыпался в прах, но моя ненависть к городу В., как выяснилось, тоже была эротичной, потому что именно после прочтения любовного романа о моряках она перестала на время возбуждать меня. За короткий промежуток отсутствия ненависти я успела посчитать, что моя попытка покинуть город В. — седьмая по счету. Да я бы на его месте уже давно выпнула меня из себя. И окна бы мне забила досками, чтоб не на что было любоваться и скулить. И чаек бы перестреляла. А оставшихся перекрасила бы в ворон-москвичек. «Он вломился в запретную мохнатку», — прочитала я на стр. 83 и чуть не сошла с ума. Это как? Знающие люди сказали мне: это то же самое, что и «ввести свою напряженную плоть во влажное лоно», стр. 67. Какой ужас, думала я, какой ужас. Живут себе где-то в лесах небольшие зверьки запретные мохнатки, никого не трогают, ни на кого не нападают, мирные, в общем, создания. Зачем он вломился в такого? Ну, разорил бы нору, забрал бы орехи, но убивать-то зачем. Бедные запретные мохнатки, и при луне нет им покоя. Хотя, может, им нравится, когда в них вламываются? Как и влажные лоны, запретные мохнатки не очень хорошо изучены зоологами, и мы можем не знать обо всех предпочтениях и повадках этих таинственных животных.
Ну какую же паршивую книгу написал бывший главврач бывшей партийной газеты, думала я, окончательно сваливаясь в температурный бред. В своем предисловии автор признался: «Эта книга, — говорил он, — была написана 30 лет тому назад, но не могла быть издана по понятным причинам». По каким, интересно? — гадала я, — что случилось в здешнем лесу за 30 лет? Неужто запретные мохнатки стали спускаться с дерев прямо на напряженную плоть бывших партийных журналистов?
Я не поверила, но все-таки отхватила себе изумительный по убойности грипп. Болезнь — хороший повод, чтобы не смотреть в окна.
Кстати, Савелову я тогда больше и не встречала. Савелова в том же году, когда Гришаня от нее отбился утюгом, попала под машину. Сперва под утюг, а потом вот так вот.
Ну а Ласточкину, конечно, я часто вижу. Живем рядом.
Ласточкина метр сорок ростом. Для нее на пароходах делали специальные скамейки, чтоб нормально доставала до плиты. Я — метр семьдесят с чем-то там. Когда мне доводилось пройтись по городу рядом с Ласточкиной, я чувствовала себя красным конем, которого ведут купать.
Ласточкину любят дети подруг и собаки друзей. Дети легко затаскивают ее под стол играть в дом, а собаки садятся на шею. Но единственное, что нужно Ласточкиной от жизни, — это свой дом со своим мужчиной и своими детьми.
Можно без собаки. Никто из нас, Ласточкиных подруг, не был создан для семьи настолько, насколько Ласточкина. Ласточкина была стопроцентной гороскопной Девой. Она бы с удовольствием гладила постельное белье.
Ласточкина говорила мне: не увольняйся из пароходства, что ты делаешь. Мне было 23, а ей 31, послушай меня, говорила Ласточкина, как ты будешь жить на берегу. «Как-нибудь, — отмахивалась я, — я не хочу к этому привыкать и вообще». Потом я приходила к ней на стоянках, она кормила меня ужинными котлетами и давала с собой борщ в двухлитровой банке.
Ласточкина говорила мне: «Это я виновата, что у тебя появился Этот». Этот увидел меня у Ласточкиной на камбузе и выманил у нее мой телефон, а потом сделался мне Яхтсменом. Но если Ласточкина виновата в моем замужестве, которое она никогда не одобряла, то я тогда виновата в том, что вообще поломала ей жизнь.
Ласточкина говорила мне: ты — как кошка, всегда встаешь на четыре лапы. Иногда я просила ее повторить это специально. «Ласточкина, скажи, что я кошка и встану на четыре лапы», — выла я, когда кто-то сжег мой дом.
«Ты кошка, ты встанешь на четыре лапы», — сказала Ласточкина. Прошло четыре месяца, я заняла прорву денег у недоверчивых кредиторов и купила квартиру с видом на Восточный Босфор, через дорогу от Ласточкиной. Она подарила мне серый палас, пальму и сказала: «Ну вот видишь». Палас мы скатали в толстую колбасу и несли ко мне с большим дифферентом на корму: Ласточкина шла сзади. А потом, когда мы с Хирумицу сняли пятый фильм и удовлетворенные кредиторы отвалили от меня навсегда, Ласточкина опять сказала: «Вот видишь».
На «Федосееве» был страшный камбуз — с высоченным подволоком и совсем на отшибе, рядом с артелкой. В рыбной камере артелки ехал труп шанхайского консула, а мы с Ласточкиной пели на два голоса «Ой, да не вечер»: я помогала ей разделывать говяжью полутушу с чернильной печатью на боку — гляди, говорю, эта корова моя ровесница. «Сопля», — сказала Ласточкина. А потом я ушла спать, а Ласточкина осталась жарить чебуреки. В это время на камбуз зашел Антонов и спросил: «Почему тебе буфетчица не помогает, вы же вроде подруги, ты ей тоже тогда не помогай». Я вечно просыпала на ужин и просила Ласточкину помочь мне накрыть столы в кают-компании, хотя у повара последние пять минут перед раздачей корма тоже сплошные гонки.
Ласточкина говорила мне: «Если б не ты, я бы не пошла на “Федосеев”, а так подумала, что вдвоем как-нибудь отработаем эту долбанную полярку». Я-то могла сказать про полярку «ебаная», а Ласточкина ругалась только словами «транда» и «задолбали». Она прислала мне радиограмму на «Федосеев» и сообщила, что получила на него направление. Я ответила: «Ура целую=Лора».
На «Федосееве» Ласточкина познакомилась с Антоновым. Молодой капитан, 34 года, похожий на медведя, но с ярко-серыми глазами. Когда он умер, ей было 42, а Антонову 46, его прислали в город В. в запаянном ящике после операции на сердце, и Ласточкина долго переживала, что его, наверное, так и не переодели и он остался в больничной пижаме.
Я-то с «Федосеева» почти никого толком не помнила, даже Ласточкину, потому что влюбилась в тридцатилетнего стармеха и страдала от дальнейшей невозможности, так как была невероятной дурой и считала, что чего-то там нельзя, раз оно все так. А Ласточкина влюбилась в Антонова и пролюбила его десять лет несмотря на, а потом еще два года думала, что больше не любит. Он десять лет говорил, что вот вырастут дети, вот закончат школу, вот поступят в университет, вот закончат университет, вот женятся, тогда — да. Ласточкина ждала и покупала ему шорты для тропиков, а если Антонову выпадала полярка, он всегда вызывал Ласточкину в рейс. Когда у него случилось с сердцем, его жена сказала Ласточкиной: «Можешь забирать». Но как-то так произошло, что Антонов забрался к докторше из пароходской поликлиники и родил с ней нового ребенка. А потом жена позвонила и сообщила дату похорон.