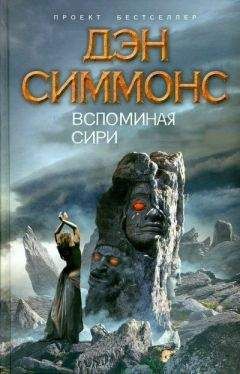Сири Хустведт - Что я любил
Когда мы переехали в Нью-Йорк, отец каждую неделю получал "Ауфбау", газету немецких евреев, выходившую в Америке. Во время войны там печатались списки пропавших без вести, и отец, прежде чем прочитать в свежем номере хоть слово, погружался в столбцы фамилий. Как же я боялся той минуты, когда "Ауфбау" доставляли в нашу квартиру, как боялся отцовской сосредоточенности, его сгорбленных плеч, окаменевшего лица, с которым он читал списки. Эти поиски родных всегда происходили в полном молчании. Он ни разу не сказал нам, что ищет их имена. Он вообще ничего не говорил. Его молчание душило нас с матерью, но мы не смели ни единым словом прервать его.
Третьего инсульта отец не перенес. Утром, когда мать проснулась, он лежал с ней рядом, уже мертвый. Я никогда прежде не видел и не слышал, чтобы она плакала. Меня разбудил жуткий вой. Я побежал в родительскую спальню. Мать каким-то чужим, сдавленным голосом сказала мне, что Отто умер, вытолкала меня вон и захлопнула дверь. Я стоял под дверью и слушал, как она хрипела и билась, зажимая себе рот, как всхлипывала и хватала ртом воздух. До сих пор не знаю, сколько я там простоял. Потом дверь открылась. Мать стояла на пороге спальни со спокойным лицом и неестественно прямой спиной. Она велела мне войти. Мы сели на кровать, где лежал мертвый отец. Через несколько минут мать поднялась и вышла в соседнюю комнату. Ей нужно было позвонить. Смотреть на отца я не боялся, я боялся грани, за которой жизнь превращалась в смерть. Жалюзи на окнах были опущены, и с каждой стороны из-под нижнего края пробивалась ослепительно-яркая полоска солнца. Я сидел в комнате рядом с отцом и смотрел на эти полосы света.
Когда Люсиль и Эрика обе были на пятом месяце, я щелкнул их на память. Они стоят у нас в гостиной, Эрика улыбается во весь рот и бережно обнимает за плечи Люсиль, которая, несмотря на всю свою хрупкость и застенчивость, кажется вполне довольной жизнью. Левой рукой она заботливо прикрывает себе живот и смотрит в камеру несколько исподлобья. Краешек рта чуть изогнулся в дежурной улыбке. Беременность была Люсиль к лицу, делала ее мягче. Я храню эту карточку как напоминание о нежности ее натуры, которая обычно была тщательно скрыта от посторонних глаз.
На четвертом месяце Эрика начала мурлыкать что-то себе под нос и не умолкала до самых родов. Она мурлыкала за завтраком, мурлыкала, выходя утром из дому, мурлыкала за письменным столом — тогда как раз шла работа над "Тремя портретами" — статьей, посвященной Мартину Буберу, М.М. Бахтину и Жаку Лакану. Эрика выступала с ней на конференции в Нью-Йоркском университете за два с половиной месяца до родов. Иногда от ее мурлыканья мне хотелось лезть на стенку, но я старался держать себя в руках. В ответ на ласковую просьбу замолчать жена поднимала на меня испуганные глаза и спрашивала: — Ой, я что, опять, да?
Беременность сдружила Эрику и Люсиль. Они сравнивали объемы талий и силу младенческих толчков, вместе ходили покупать крохотные одежки и обменивались понимающими ухмылочками по поводу бюстгальтеров внушительных размеров, выпяченных пупков и непрекращающихся позывов. Конечно, Эрика смеялась веселее, но Люсиль, пускай по-прежнему сдержанно-молчаливая, в компании моей жены чувствовала себя куда свободнее, чем в обществе других людей. Однако, стоило детям появиться на свет, как в отношениях двух женщин наметилась трещинка. От Люсиль едва заметно потянуло холодком. Первой это почувствовала Эрика. Я ничего не видел и не замечал, и даже когда Эрика говорила мне, что происходит, то долгое время отказывался этому верить. Люсиль и прежде не отличалась изяществом манер, а теперь к ее природной прямоте и резкости примешивалось крайнее утомление от тягот материнства. Моих аргументов Эрике хватало, но ненадолго — до первого мелкого укола, всегда неявного, всегда подспудного.
Когда мы с Люсиль встречались, то говорили исключительно о поэзии. Она приносила мне журнальчики со своими стихами, я внимательнейшим образом изучал публикации и говорил, что о них думаю. Причем не столько говорил, сколько спрашивал: почему такая форма? почему это слово, а не то? И Люсиль охотно рассказывала мне о запятых и точках, о том, почему ей ближе лапидарная манера выражения. Меня подкупало ее умение акцентировать внимание на подобных мелочах, и я с удовольствием с ней беседовал. Эрике стихи Люсиль категорически не нравились, по ее словам, читать их было "все равно что вату жевать". Возможно, Люсиль кожей чувствовала неприятие своего творчества, возможно, ей было неловко, оттого что Эрика безоговорочно разделяла литературные вкусы Билла и иногда звонила ему с какими-то вопросами. Время шло, и мне становилось все очевиднее, что прежняя близость между Люсиль и Эрикой исчезла, и чем дальше они отходили друг от друга, тем больше Люсиль тянулась ко мне.
Недели через две после того, как я сфотографировал Эрику и Люсиль, Сай Векслер скоропостижно скончался от сердечного приступа. Просто пришел вечером с работы, хотел просмотреть почту и упал замертво. В своем просторном доме он жил один. Его средний брат, Морис, зашел к нему только на следующее утро. Сай лежал на полу в кухне, вокруг были разбросаны счета, письма, каталоги. Для всех его смерть явилась полной неожиданностью, ведь он не пил, не курил, каждое утро бегал по пять километров. Организацией похорон занимались Билл и дядя Морис. Из Калифорнии прилетел младший брат Сая с женой и двумя детьми. После погребения нужно было навести порядок в доме, этим тоже пришлось заниматься Биллу и Морису, а потом Билл начал рисовать. Он сделал сотни портретов своего отца, по памяти и по фотографиям. После выставки он какое-то время почти ничего не писал, и не потому, что не хотел, просто надо было зарабатывать деньги. Правда, два портрета Вайолет удалось продать в частные собрания, но деньги, вырученные за них, быстро разошлись. С того момента, как Билл узнал, что у них с Люсиль будет ребенок, он хватался за любую работу. По большей части это была малярка, и после изматывающего дня на стройплощадке Билл едва мог добраться до постели. После смерти отца он получил наследство и смог в корне изменить свою жизнь, потому что Сай Векслер оставил каждому из двух сыновей по триста тысяч долларов.
Прямо над нами, в доме номер двадцать семь по Грин — стрит, продавалась мансарда, которую Билл и Люсиль решили купить. В начале августа 1977 года состоялся переезд. Мастерскую на Бауэри Билл тоже сохранил за собой, благо арендная плата была небольшой. Он как-то сказал мне, что на оставшиеся от Сая деньги они с Люсиль смогут купить себе время и возможность заниматься любимым делом. Но в то лето времени на живопись у него почти не было. Целыми днями он с утра до ночи глотал пыль и что — то пилил, строгал, сверлил, сколачивал. Сам клал стены, чтобы разгородить пространство мансарды на комнаты. Сам облицовывал кафелем ванную, после того как слесарь установил сантехнику. Сам мастерил встроенные шкафы, сам возился с проводкой, сам вешал кухонную мебель, а потом, поздно ночью, возвращался в мастерскую, где крепко спала Люсиль, и рисовал. Рисовал отца. Им двигала энергия скорби. Билл понимал, что со смертью Сая он обрел второе начало, что титанические труды этого горького лета из физических должны перелиться в духовные. Он работал во имя отца и ради будущего сына.
Как-то вечерком, в первых числах августа, за считаные дни до рождения Мэтью, мы с Берни Уиксом зашли к Биллу в мастерскую. Нам хотелось взглянуть на его эскизы к большой портретной серии, которая мало-помалу вырисовывалась из огромного количества набросков: Сай сидит, Сай стоит, бежит, спит… Тасуя рисунки, Берни вдруг на мгновение замер и произнес:
— Ты знаешь, мы ведь однажды с ним замечательно поговорили.
— На вернисаже? — вяло уточнил Билл.
— Нет, недели две спустя. Он приходил еще раз, чтобы взглянуть на твои работы. Я его узнал, и мы разговорились.
— Он специально приходил в галерею? — ошеломленно спросил Билл.
Берни пожал плечами:
— Я думал, ты знаешь. Пробыл там не меньше часа. Очень внимательно все рассматривал, так, знаешь, неторопливо: постоит перед холстом, идет к следующему.
— Значит, он приходил еще раз, — растерянно повторял Билл. — Все-таки приходил.
Мысль о повторном визите Сая в галерею не покидала Билла, ведь это было единственным доказательством отцовской любви. А что он видел раньше? Отец не вылезал со своей картонажной фабрики, так что им оставались лишь редкие встречи по исключительным поводам, вроде матча малой бейсбольной лиги, школьного спектакля, первой выставки — вот и все проявления родительского долга и отеческой привязанности. Негусто. Рассказ Берни добавил новый слой к портрету отца, который Билл писал у себя в душе, и непостижимым образом укрепил его преданность "Галерее Уикса". Что делать, в сознании художника вестник и весть слились воедино. Так что Берни, покачиваясь с носка на пятку, стоял перед холстами с портретами Сая, перебирал пальцами ключи, бумаги и железяки, которые, как объяснил Билл, станут элементами коллажей, и глаза его горели охотничьим азартом. Он чуял поживу. Роды — штука жестокая, кровавая и крайне болезненная, и никакие аргументы не убедят меня в обратном. Я слышал сотни историй о роженицах, которые в чистом поле жали-косили, потом садились на корточки, тужились, рожали, перегрызали пуповину, привязывали младенца себе на спину и снова брались за серп. Увы, не на такой женщине я был женат. Я был женат на Эрике. А это означало, что мне пришлось ходить с ней вместе на курсы по подготовке к "мягким родам" и выслушивать там лекции по технике дыхания. Джин Роумер, наша инструкторша, коренастая крепышка, в неизменных шортах до колен и тяжелых кроссовках, говорила о родах как об экстремальном виде спорта, а аудиторию свою делила на "мамочек" и "ассистентов". Нам показывали фильмы, в которых атлетически сложенные женщины, не морщась, приседали во время схваток у стеночки и прямо-таки выдыхали из себя младенцев. Мы упражнялись в технике верхнего и нижнего дыхания и закрывали глаза на мелкие издержки грамматики всякий раз, когда раздавалось призывное: "Ляжьте на пол!" В свои сорок семь лет я мог претендовать среди будущих папаш на почетное второе по старшинству место. Пальма первенства принадлежала шестидесятилетнему бодрячку по имени Гарри, у которого уже были взрослые дети от первого брака. Теперь он, не щадя себя, готовился рожать второго ребенка со своей второй женой, которой было, наверное, за двадцать, хотя выглядела она на семнадцать.