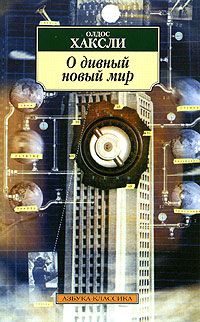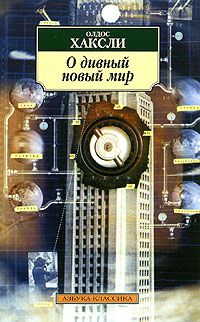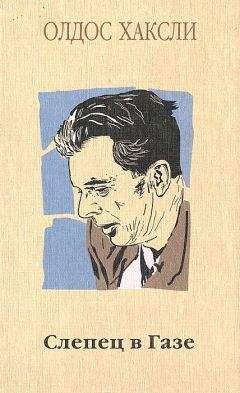Габриэль Маркес - Жить, чтобы рассказывать о жизни
Сейчас я думаю, что те сумасшедшие ветра подметали стерню бесплодного прошлого и открывали мне двери какой-то новой жизни. Мои отношения с группой перестали быть лишь удовольствием и превратились в профессиональное сообщничество. Сначала мы обсуждали темы в планах или обменивались наблюдениями, вовсе не назидательными, но незабываемыми. Решающим для меня было утро, когда я вошел в кафе «Джэпи», где Херман Варгас заканчивал читать в тишине рубрику «Ла Хирафа», вырезанную из дневной газеты. Другие из группы ждали его вердикта вокруг стола со своего рода почтительным страхом, что делало еще более густой завесу дыма в зале. Закончив и даже не взглянув на меня, Херман разорвал ее на кусочки, не сказав ни одного слова, и перемешал их с окурками и спичками в пепельнице. Никто ничего не сказал, настроение стола не поменялось, и случай не объяснился никогда. Но это мне послужило уроком, когда на меня нападало из-за лени или из-за спешки искушение написать хоть абзац, чтобы выполнить обязательство.
В первой попавшейся гостинице, где я жил уже почти год, хозяева в конце концов стали ко мне относится как к члену семьи. Моим единственным имуществом были давнишние сандалии и две смены белья, которое я стирал в душе, и кожаная папка. Я везде носил ее с собой с оригиналами того, что написал, единственно ценное из того, что я мог потерять. Я бы не рискнул оставить ее за семью ключами в бронированной ячейке банка. Единственный человек, которому я ее доверил в мои первые вечера, был скрытный Ласидес, привратник гостиницы, который принял ее у меня как гарантию платы за комнату. Он быстро пробежался глазами по машинописным текстам, полным запутанных поправок, и хранил ее в выдвижном ящике стойки. Я выкупил ее на следующий день в обещанное время и выполнял мои платежи с такой тщательностью, что он мне ее давал под залог даже на три ночи. Соглашение было настолько серьезным, что несколько раз я оставлял ее на стойке, не предупреждая, как в добрые вечера, сам брал ключ с доски и поднимался в свою комнату.
Херман жил постоянно озабоченный моими стесненными средствами до такой степени, что знал, когда мне негде было спать, и давал мне украдкой полтора песо на койку. Я никогда не знал, откуда он это знал. Благодаря хорошему поведению я вошел в доверие к персоналу гостиницы до такой степени, что шлюхи мне одалживали для душа свое личное мыло. В своем командном пункте со своими звездными сиськами и тыквенным черепом господствовала жизнью его хозяйка и госпожа Каталина Великая. Ее постоянный любовник Хонас Сан Висенте был блестящим трубачом. до тех пор, пока ему не выбили зубы с золотыми пломбами во время нападения с целью украсть у него каску. Избитый, без возможности дуть в трубу, он вынужден был поменять службу и не смог найти лучшего применения для своей палки длиной в шесть дюймов, как только в золотой кровати Каталины Великой. У нее также было интимное сокровище, которое ему годилось, чтобы взбираться в течение двух лет с жалкого рассвета речной дамбы до ее трона великой крестной матери. Мне посчастливилось узнать и изобретательность, и развязную руку обоих, чтобы иметь счастье стать их другом. Но они никогда не могли понять, почему столько раз у меня не было полтора песо, чтобы переночевать, а между тем за мной приезжали экстравагантные люди на служебных лимузинах.
Другим счастливым событием тех дней было то, что я стал другом второго шофера Моно Гэрра, таксиста настолько белого, что он казался альбиносом, и настолько умного и симпатичного, что его выбрали почетным членом городского совета, не проводя избирательной кампании. Каждый встреченный им рассвет в индейском районе был словно из кино, потому что он обогащал его вдохновенными выходками. Он мне сообщал, когда выдавалась спокойная ночь, и мы проводили ее вместе в безрассудном индейском квартале, как наши родители и родители наших родителей учили делать нас.
Никогда не мог понять, почему посреди такой бесхитростной жизни я внезапно ушел ко дну в неожиданном упадке сил. Мой текущий роман «Дом», начатый примерно шесть месяцев назад, мне показался пошлым фарсом. Я больше говорил о нем, чем писал его, и в действительности он был нелогичным, но у меня были фрагменты, которые до этого и после я опубликовал в рубрике «Ла Хирафа» и в «Кронике», когда оставался без темы. В одиночестве выходных дней, когда другие укрывались в своих домах, я оставался в пустующем городе одиноким более, чем левая рука. Это была абсолютная нищета и птичья застенчивость, которым я пытался противостоять с невыносимой гордостью и жестокой прямотой. Я чувствовал, что она повсюду мешала, и даже некоторые знакомые указывали мне на нее. Нагляднее всего мой скверный характер выглядел в комнате редакции «Эль Эральдо», где я писал до десяти часов без перерывов в отдаленном углу, ни с кем не общаясь, окутанный облаком дыма от дешевых сигарет, которые я курил без остановки в одиночестве, без какого-либо облегчения. Я делал это со всей поспешностью, часто до раннего утра и на типографской бумаге, которую носил повсюду в кожаной папке.
Однажды в рассеянности тех дней я забыл ее в такси, и я понял без огорчений, что это проделка моей несчастной судьбы. Я не предпринял никакого усилия, чтобы вернуть ее, но Альфонсо Фуэнмайор, встревоженный моей халатностью, сочинил и опубликовал заметку в конце моего раздела: «В прошедшую субботу была забыта куча исписанной бумаги в машине общественного пользования. Учитывая, что владелец бумаг и автор этого раздела по совпадению одно и то же лицо, мы оба отблагодарим того, у кого они находятся, если он соблаговолит связаться с одним из нас. Бумаги не имеют абсолютно никакой ценности: только „неизданных“ жирафов». Через два дня кто-то оставил мои черновики в комнате привратника «Эль Эральдо», но без папки и с тремя орфографическими ошибками, исправленными очень хорошим почерком зелеными чернилами.
Ежедневного заработка мне хватало только, чтобы оплачивать комнату, но то, что меня меньше всего беспокоило в те дни, это пропасть нищеты. Много раз, когда не мог оплатить ее, я уходил читать в кафе «Рома», как это было на самом деле: одиночка, блуждающий в ночи по бульвару Боливар. Какого-нибудь знакомого я приветствовал издали, если я вообще удостаивал его взглядом, и продолжал путь до моего привычного убежища, где много читал, пока меня не прогоняло солнце. Я тогда все еще продолжал быть ненасытным читателем без какого-либо систематического образования. Особенно поэзии, даже плохой, поскольку и в самом плохом расположении духа я был убежден, что плохая поэзия приведет рано или поздно к хорошей.
В моих заметках в разделе «Ла Хирафа» я проявил себя очень восприимчивым к народной культуре, в противоположность моим рассказам, которые больше были похожи на кафкианские головоломки, написанные кем-то, кто не знал, в какой стране живет. Тем не менее правда моей души была в том, что драма Колумбии дошла до меня как отдаленное эхо, и меня потрясало только, когда реки крови вышли из берегов. Я прикуривал одну сигарету от другой, вдыхая дым с жаждой жизни, с которой астматики выпивают воздух. Три пачки сигарет, которые я уничтожал за один день, были заметны не только на ногтях, но и в кашле, как у старого пса, который лишал спокойствия мою юность. Одним словом, я был робким и грустным, как добрый кариб, и настолько ревностно хранящий свою личную жизнь, что на любой вопрос о ней я отвечал с риторической дерзостью. Я был уверен, что мое невезение было врожденным и непоправимым, особенно с женщинами и деньгами, но мне это было не важно, потому что я думал, что удача не нужна, чтобы писать хорошо. Меня не интересовали ни слава, ни деньги, ни старость, потому что я думал, что умру очень молодым и на улице.
Поездка с матерью, чтобы продать дом в Аракатаке, вызволила меня из этой бездны, и уверенность в новом романе показала на горизонте ясно различимое будущее. Это было решающее путешествие среди многих других, что были в моей жизни, потому что мне доказало на моей собственной шкуре, что книга, которую я пытался писать, была чистой напыщенной выдумкой, без какой-либо опоры на поэтическую правду. Проект, разумеется, разбился вдребезги, столкнувшись с реальностью той знаменательной поездки.
Центром эпопеи, как я об этом мечтал, должна была стать моя собственная семья, которая никогда не была активной участницей событий, а только бесполезной свидетельницей и жертвой всего. Я начал писать эпопею тотчас, как вернулся в Аракатаку, потому что ничего не принесло создание романа с помощью искусственных средств, но важна была эмоциональная нагрузка, которую я перенес, сам того не зная, и которая ждала меня невредимая в доме бабушки и дедушки. Но с первого же шага по горячему песку городских улиц мне дали знать, что мой способ не был самым удачным, чтобы рассказать о том земном отчаянии и ностальгии, несмотря на то что я потратил много времени и работаю, чтобы найти правильный способ.