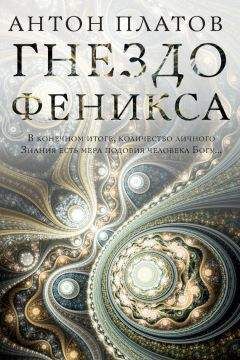Антон Уткин - Крепость сомнения
Голос этого старика убаюкивал, канонада – дотоле близкая – отступила, как боль от морфия.
– А то от батька мне уже казал: как был на срочной, и пришел за Кубань брат царев Михайло Миколаич, а с ним полков невидимо... И зашли в горы, высоко поднялись, все горы прошли, а ин нет никого... И ничего не смог поделать князь Михайла. Звон-то слышит колокольный, будто колокола звонят по горам, а откуда он идет – не могут в толк взять...
– Смерти не ведают? – усмехнулся молодой. – Эх, болтаешь, дед. – Он откинулся навзничь, заложил руки за голову и смотрел с мечтательной улыбкою в развалины неба. – Смерти не ведают, – повторил он. – Секрет они, што ль, знают какой?
– Один секрет-то, кого Господь сподобит, тот и знает его, – отозвался казак. – Путешествуйте в душе своей – сказано. Так-то оно, – вздохнул он.
Николай слушал казака, затаив дыхание. Слова его, похожие на сказку, мысленно перенесли его в тифозный вагон. Он не мог не вспомнить опять своего безвестного попутчика, и то, что невольно услышал тогда на ледяных полатях, странным образом имело отношение к тому, что рассказывал сейчас этот пожилой казак. А внутри его звучал как символ спасения голос интонации которого он уже никогда с тех пор не мог забыть: «Не проскочить туда железною машиной, ни лошадью, а только пешим трудом Божьим, и кто пребудет там – забудется все горе, отойдет от него печаль и будет одна благодать». Он и сам не был уверен, принадлежал ли голос тому настоящему человеку из поезда или же это плод воспаленного его собственного сознания.
– Так нет же ныне царя, дядя Порфирий, – опять возразил молодой.
– Ты не названье замечай, а обличье, – рассудительно и серьезно отвечал казак. – Грядет царь страшнее прежних, лютым законом всех почернить возжелает.
Николай отошел от костра, положил матрас на телегу и пошел за следующим. Его глаза немного нервно и испытующе ощупывали каждое лицо, попадавшееся ему навстречу, как будто он хотел распознать, догадывается ли еще кто-то о том, о чем знает он.
* * *
С утра шестого марта все, кто мог стоять на ногах, собирались во дворе госпиталя. Некоторые раздобыли лошадей, а некоторых уложили на подводы. На милость грядущего победителя оставались или не оправившиеся еще от бреда, или инвалиды, или совсем уже безнадежные. Распоряжался комендант города полковник Гагарин, в императорской армии бывший начальником пулеметной команды Измайловского полка. По слухам, красные уже заняли Армавир, и путь к железной дороге был окончательно отрезан.
Из Кисловодска вышли длинным обозом повозок в сто. Кто мог идти, присоединялись к отряду полковника Гагарина. Что делалось на побережье в районе Новороссийска, никто не знал. Связи между частями уже не существовало.
В средних числах марта большевиков, находившихся тогда в Сентинском монастыре, ждали уже и в Верхнетебердинский аул. Казаки стали разбредаться в лес и горы, пробираясь в свои станицы. Добровольческим офицерам деваться было некуда. Взоры их были обращены на Клухорский перевал.
Николай слышал, как какой-то заслуженный молодой кубанский генерал отговаривал Гагарина от этого предприятия, пугая его абреками и непроходимыми в это время года снегами. Сам генерал с несколькими своими людьми предполагал вернуться вниз по Тебереде и, не доходя красных, свернуть в горы к аулу Даутскому – медвежьему углу, оторванному от мира, пересидеть первые дни, а там положиться на судьбу.
Гагарин созвал совещание в карачаевском коше. Понемножку тут были все цвета Добровольческой армии, но больше было казаков и их офицеров. Они рассказывали о некоем большом старообрядческом селе, буквально затерянном своими хуторами где-то под Санчарским перевалом, где еще при старой власти не ступала нога исправника, и быть может, и поэтому тоже большинство участников высказались за поход в Грузию. Так Николай еще раз услышал таинственное название Псху. Всего отправлялись в горы семьдесят восемь человек. На всех было два «льюиса» и две дюжины лошадей.
По утрам стояло солнце, и прозрачный чистый светоносный воздух нежно обнимал вершины, стоявшие в разломах ущелий неправильными треугольниками, но после двух часов пополудни там в вышине начиналась какая-то мрачная, темная, зловещяя жизнь. Грозно ворчали громы, и седые облака загромождали линию хребтов, как будто войска на крепостной стене готовились к отражению штурма. Николай никогда не бывал в горах, и эта суровая мощь заставляла проникаться сознанием собственной малости.
Снег теперь был глубокий – местами пол-аршина, а чем выше – стал доходить уже до колена. На солнце он таял, и через шаг ноги проваливались до основания. Продвигаться было неимоверно трудно. Приходилось протаптывать тропинку. Из лозы казаки пробовали плести снегоступы, но саму лозу приходилось выкапывать с полутораметровой глубины. Стояла чудная погода, без малейшего ветерка, с ослепительным солнцем, которое делало нестерпимым для человеческого взгляда бескрайние снежные насты.
В четыре дня, поднимаясь все выше и выше, добрались до поляны Твамба, где остановились в разбросанных пастушеских кошах. Здесь пролегала граница леса. Выше шли скалы и снега. На поляне пришлось бросить лошадей. Многие плакали, не скрывая слез, иные тащили свои седла и уздечки на плечах, не желая с ними расставаться. Впереди себя решили гнать баранту, а для совсем больных устроили род салазок, которые предстояло волочь на арканах.
* * *Кем был этот человек, Николай до конца так и не узнал. Говорили, что он большой знаток Азии, в прошлом он состоял профессором Московского университета, во время Великой войны был начальником Урмийского отряда Всероссийского земского союза. В Кисловодск он попал из Петровского порта на бронепоезде, а туда, на Каспий, вроде бы как из самой Индии.
Полковник Гагарин держался с ним хотя и по приятельски, но крайне почтительно. Во всяком случае, Николай сам слышал, как он сказал кому-то:
– А капитан у нас был хороший. Уж так Чехова любил, Антона Павловича. Уж так любил. Уж так цитировал. Я, говорит, в Коломбо индиго грузился, а пока до Одессы дошел, будто кожу с меня содрали.
В коше его место странным образом оказалось рядом с Николаем. Как-то они лежали на полатях на сухом сене, местами слежавшемся в пыль. Половины крыши не было, и в огромном провале у них над головами стояли звезды. Ветер тыкался в стену, и струйки его загадочным образом проникали между бревен в местах выпавшего мха. Николай думал, что сосед его спит, но внезапно тот заговорил каким-то слабым, скрипучим, довольно неприятным голосом:
– В воспоминаниях Вертинского есть удивительное описание. Hа опушке Булонского леса в восемь часов вечера в июле собираются экипажи. Похоть раздирает их седоков. Они покидают коляски и разбредаются по лесу и там, в чаще, находят себе новых партнеров. На часок. И вы тоже там будете, в компании немного несвежей жрицы с Рю Дарю. И сами-то вы будете несвежи. И, замечу, все это только в том случае, если в кармане у вас будут тявкать несколько франков. И представьте, встретите ее. – Профессор приподнялся на локте, чтобы видеть лицо Николая, и повторил, как бы придавая правдивость своим словам: – Да, ее, ее... Так вот, вы совокупитесь под сенью платана или чего там, точно уж не помню, на толстых глянцевитых листьях, на накидке с сиденья авто, а то и просто на сюртуке от Глювеналя. Совокупитесь и пойдете прочь, в разные стороны. И она оглянется, да-да оглянется на вас с сожалением. «Ах, милый, милый мальчик, – будет думать она, блуждая между караковых стволов, – тебя долго не было, ты долго искал правды, ты даже с непривычки стер себе ляжки о казачье седло, но ты малохольный, а я полюбила мужчин, не пропускающих свой бифштекс с кровью».
– Что за чушь вы городите, – тихо отозвался Hиколай, холодея от ужаса. – Воспоминания этого, как его, вашего Вертинского, еще не написаны.
– Все до слова уже написано, мой милый мальчик, – сказал профессор. – Все до слова. Как эти звезды. Вы на поляне Твамба. Hебо здесь почти как в Гималаях. Эти звезды пишут историю.
Hиколай лежал на спине. Камень давил ему в левый бок, однако зрелище звездного купола не позволяло даже оторваться, переменить положение тела. Невольно вспомнились строки Лермонтова и как бы начертали сами себя в кремнистой россыпи небесных злаков.
– Не соблазняйте, профессор, – отозвался Николай. – Они ее только отражают.
– Отражают? – облегченно хмыкнул профессор. – Ну тогда вы что-то неправильно сделали. Своими слабыми интеллигентскими руками. Ведь когда мужик с барином дерется...
– Дрались, – вздохнул Николай. – Столетий много истекло... Да бог с ним, чего уж сейчас судить.
– А вы, – вздохнул профессор, не меняя интонации, – вы тоже побредете между караковых стволов и тоже будете думать разное. Это могло стать животворящим лоном, дарящим новые жизни, понимаете вы? – Он внезапно приподнялся, озираясь.