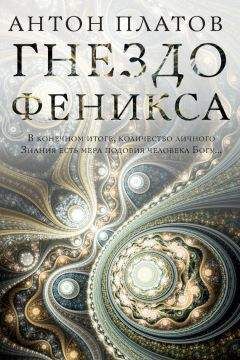Антон Уткин - Крепость сомнения
Ему захотелось увидеть Веронику. Не лечь с ней в постель, а именно увидеть: пройтись, посидеть в кафе, повозмущаться ее двусмысленным шуткам, послушать сплетни, без которых она жить не могла, полюбоваться на ее улыбку, услышать ее голос... Выйдя из станции, он попробовал ей дозвониться, но дома трубку не снимали, а мобильный абонент был «временно недоступен». Он хорошо знал, что с ее телефоном такое случается только в одном случае, и тяжело вздохнул. Оставалась, правда, еще одна надежда, что она тоже едет сейчас в метро, но метро она почти не пользовалась. И найти ее сейчас в этом счастливо засыпающем городе он был бессилен.
* * *
Форс-мажор, на который втайне уповал Илья, улавливая его признаки в выпусках новостей, из его не вполне осознанной мечты стал плачевной явью. Но эта мечта оказалась из тех, чье исполнение, пожалуй, в чем-то и пострашнее того, от чего должна избавить балующегося ей человека. И Илье стало страшно в обломках своей мечты.
По внешности все оставалось по-старому: сотрудники находились на своих местах, трещали телефоны, в начале десятого курьер доставлял пухлый пакет свежих газет и журналов, и в кабинете Ильи далеко глядящий премьер таил многозначительную улыбку: «знаю, все знаю», – всесильный оберег от всех напастей жизни.
А между тем крушение банка было чревато для компании Ильи и для него лично самыми неприятными последствиями. К концу второго дня стало уже ясно, что внесенные деньги выручить невозможно. Константинов принял новость спокойно. «Все понятно, накрыли они „помойку“ эту, – пояснил он. – За горло брать не буду, сам понимаешь, – сказал еще он, – но выкручивайся сам». Илья просиживал допоздна под портретом премьера и мучительно соображал, как можно все поправить. Теперь единственным способом было получить щиты вперед, отработать их и расплатиться задним числом, хотя бы уже через месяца полтора. Самвел выслушал Илью с ужасом, но через три часа перезвонил. «Мне нужно хоть какое-то обоснование. Если б ты достал договор, я бы здесь как-нибудь...»
От одного из своих знакомых Илья уже знал, как это можно устроить. Нужно было заключить договор на размещение социальной рекламы, которая оплачивалась из бюджетных денег, а с бюджетными деньгами, как с Богом, у всех были свои отношения. А еще от одного знакомого Илья знал, кто именно был ему нужен: помочь в этом мог Лиденс, депутат от «Единства», с которым Илья учился на одном курсе. Знакомый уверял, что «по дружбе» и, как следствие, за небольшое вознаграждение у Ильи есть все шансы получить заказ на эту социальную рекламу. Но именно это-то обстоятельство делало план невыполнимым. «Ну какая такая дружба?» – задавал он себе вопрос, и сразу в памяти вставала ремонтная тракторная станция под Можайском и суд над свободной мыслью, в котором Лиденс принимал не последнее участие. Но чем больше Илья рассуждал об этом сам с собой, тем больше он находил оправданий Лиденсу и тем меньше понимал свою нелепую щепетильность. Цель этих размышлений, может быть, и состояла в том, чтобы как-то уломать свою совесть и сделать обращение к нему возможным. Другого выхода у Ильи не было. «Ну и что, что депутат? – думал Илья. – Кому-то, в конце концов, надо же быть депутатом». То, что он слышал о нем плохого и чему раньше охотно верил, теперь стало казаться ему ни на чем не обоснованными домыслами и сплетнями, а тому, что наверное знал сам, без труда подобрал извинения. И в итоге пришел к выводу, что в Лиденсе ему прежде всего неприятна его внешность, а презирать человека за внешность недостойно.
Но все же он медлил и слушал каждый выпуск новостей, словно надеясь, что банкротство банка обернется первоапрельской шуткой, хотя на календаре с утра значилась цифра 14, что вмешается, наконец, государство, хотя Константинов ясно объяснил, что государство уже вмешалось.
В том, что Алин голос донес до него весть о несчастье, Илья видел недобрую усмешку судьбы.
Они уже не встречались, но еще перезванивались, вяло и как бы нехотя, по обязанности прошлого перечисляя друг другу даже самые незначительные новости.
Последний раз он заехал к ней за некоторыми из своих вещей еще в один из последних дней апреля. Сами по себе вещи эти не представляли никакой ценности, и можно было ими пренебречь, оставив там, где они лежали, а то и вовсе выбросить, но по негласному соглашению дело это ими обоими было признано нешуточным, вещи – чрезвычайно важными и нужными.
Илья медленно въехал в знакомый двор. Колеса, словно им передалась хрупкость момента, поворачивались очень аккуратно, точно опасались раздавить что-то маленькое и живое, беззащитное перед их тяжестью. Место, куда он обычно ставил машину, оказалось занято черным тяжелым мини-вэном, похожим на погребальный катафалк. Аннушка была у бабушки. В коридоре они не разминулись, он сделал попытку ее обнять, она отстранилась, но не слишком решительно, и он взял ее почти насильно, но свободно, быстро и легко.
– Теперь мне ясно, – попробовал пошутить он, – что секс – не главное в жизни женщины. Да и в жизни мужчины, – добавил он.
Она кисло улыбнулась в ответ и предложила бутерброд с какой-то исключительной рыбой. Он ел бутерброд, медленно прожевывая каждый кусочек, а она сидела рядом и молча смотрела за тем, как он ест. На коже ее лица медленно потухали красные пятна страсти и смущения.
* * *
Стояли в городе несколько дней, когда сходил последний черный снег, и обнаженные еще деревья были не в силах противиться сухой и крупной пыли, которую нес веселый, сорвавшийся с поводка ветер весны.
В лавке «Халял», служившей с недавнего времени Галкину столь ярким ориентиром, можно было видеть или далекий форпост «Торговых рядов у переезда», или рассматривать ее в качестве отставшей от главного обоза маркитантской кибитки.
Лавка – само это старомодное слово и ее название – представлялась Галкину средоточием древностей, вызывала в воображении образы фонарей старых дней, заставляла думать о медных лампах, в которых сокрыта волшебная сила эфира, и может быть, о чем-то таком, что на всех языках зовется одинаково. Вызывающий неугасимый свет ее вывески побуждал к дальнейшим размышлениям. Непонятное слово «халял» ему нравилось, прицепилось к нему, и когда ему удавалась его работа, он взял привычку удовлетворенно приговаривать: «Халял, халял...» В нем он улавливал дуновение блага и смутно чувствовал ключ к разгадке того вопроса, которым измучился. И в конце концов ему стало ощутимо, что он преследует некую недостижимую цель, которую каждое предыдущее поколение передает следующему – эту обязанность быть человеком.
Лавка открывалась и закрывалась без всяких сроков, исключительно по желанию своего владельца. И когда Галкин не торопясь шагал к дому, когда влажная земля апреля податливо источала свой аромат, он избегал заходить в лавку, опасаясь того, что созерцание ее внутренностей развеет обаяние не до конца понятного слова.
* * *
Офицерская тетрадка продолжала одаривать Галкина неожиданностями. В обложке с задней стороны Галкин нащупал какое-то утолщение. Оказалось, бумага, приклеенная к лендрину с изнанки, была подрезана, и булавкой ему удалось вытащить сложенный вчетверо листок тонкой копирной бумаги.
«Милая Ольга, – Вы позволите мне называть Вас так, ибо иначе отказывается писать рука моя... Вижу по Вашим глазам, что Вы помните меня. Лица забываются тяжело. „Мы – дети страшных лет России“, – писал Блок, а мы смеялись. А где довелось мне Вас увидеть, а Вам меня, и при каких обстоятельствах? Помните ли на Сухаревке лавку „Халял“, которую содержал азербайджанский татарин? Вот имени его не помню: то ли Рустам, то ли Рахим. Мальчишки окрестили Ибрагим-пашой. Он просиживал в своей лавке дни напролет, по-восточному невозмутимый, я так и вижу его турецкую феску и арнаутскую безрукавку. Должны помнить, ведь не раз встречал я Вас там и видел, как вы разглядывали все эти диковины. Хотя Москва и Азия, а все-таки есть другая, настоящая и далекая Азия. Не раз мне приходило на ум, что стоит только порыться хорошенько в хламе, и наткнешься на какую-нибудь покрытую бирюзовой патиной чашку, а то сама она прыгнет тебе на руки, – коснешься ее невзначай, потрешь рукавом, и дребезжащий голосок какого-нибудь Ибн аль-Муллаваха из Басры молвит со спокойствием небожителя: „Благостен будь, благочестивый юноша, собирающий осколки быстротекущей жизни. Караваны в песках, корабельщики в море... Интересуйся. Халял. Что бы ты хотел узнать прежде всего? Ибо от ума к сердцу проложены пути...“
А еще ходила легенда, будто лавка и впрямь не чужда волшебству: будто бы там можно было получить ответы на все свои вопросы и разрешить все свои сомнения. Нет, может быть, не все, а только самые главные и важные, без которых жизнь не существует для мыслящего человека. Но это, конечно, досужие разговоры. Хотя для меня лично это именно так: ведь там, около лавки «Халял», я впервые увидел Вас, и вот, изволите видеть, не позабыл.