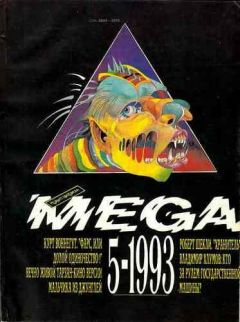Роберт Хелленга - 16 наслаждений
– Папа, ты не должен был уезжать из Чикаго. Это было единственное место, которое я когда-либо называла домом.
Я намеренно хотела ранить его, и я знала, что мне это удалось, потому что он надолго замолчал. Я наблюдала, как секундная стрелка поедает минуты. Это будет дорогой телефонный звонок.
В то утро, когда умерла мама, папа просто сидел на краю постели, обхватив голову руками и ожидая, когда придет доктор. Сейчас я представила, что он сидит так же, на краю постели, с толстыми плоскими сосками, как будто кто-то вырезал их из кусочка ветчины дыроколом, резинка на трусах ослабла… В ожидании. Как только я ни старалась, я не могла себе представить Техас. Река, гора, обрыв – все это для меня было пустым звуком. Даже собаки. Бруно и Саски. Что теперь будет с нами? Я хотела позвонить Мэг и Молли, однако мысль о собаках перевернула меня. У меня были претензии к отцу, но я забыла о собаках, забыла, как счастливы они были видеть меня, когда я вернулась из Италии, после того как мама заболела.
– Марго, – наконец сказал он, – ты думаешь, мне это было легко – продать наш дом? Ты думаешь, я сделал это назло тебе? Я повесил объявление ПРОДАЕТСЯ вроде как в шутку. Мэг и Дэн говорили, что поедут на Рождество в Милуоки; у Молли сломалась машина, и она собиралась остаться в Анн-Арборе со своим бойфрендом; ты была в Италии; ты не звонила, до самого вечера накануне Рождества. Я повесил объявление, чтобы дать возможность твоим сестрам задуматься, а затем я сам задумался над этим, когда вышел на улицу, чтобы снять его. Я понял, что настало время двигаться дальше. Я не знаю, откуда я это знал, но я знал. Вот тогда ты позвонила, прямо вслед за этим. Я сидел за кухонным столом и заполнял рождественские чулки. Ты сказала, что влюблена, и я был счастлив за тебя, хотя он и был женатым человеком. Я с тех пор почти ничего не слышал от тебя.
Теперь была моя очередь замолчать, видеть, как падает снег, в то время как он прибивает табличку о продаже к круглому столбу на porte-cochere, смотреть на Рио-Гранде, пока он отливает на вершине холма. Я всегда знала и любила его как моего отца, но я никогда не знала и не любила его как мужчину, кого-то со своим собственным распорядком дня, своими планами, своим будущим, о котором он должен заботиться сам. Где бы он ни был, это все равно было то место, где, когда я вынуждена буду туда вернуться, меня обязательно примут. Но я знала, что не собираюсь ехать туда. Ни сейчас, ни потом, ни чтобы остаться, ни даже с обратным билетом в сумке.
– Ты все eine влюблена? – спросил он.
– Уже нет, – сказала я.
– Он вернулся к жене?
– Да.
– Мне жаль.
– Ничего, папа. Все в порядке. Но мне жаль, что я сказала то, что сказала. Я не очень хорошо подумала.
– Ничего, все в порядке.
– У тебя неприятности, папа? Насколько это серьезно?
Что было тяжелее всего – это то, что он впервые за все время попросил меня о чем-то, что ему было очень нужно. И впервые за все время у меня было то, что ему нужно. И я не могла ему это дать.
– Нет, – сказал он, – не очень серьезно, если все резко не станет хуже.
В тот день мы с Тони занялись любовью первый раз – в моем номере в отеле. Наше воображение разожгла продажа Аретино, а наши тела – долгая, медленная к этому дорога. Ну, медленная по современным стандартам. Кто знает, какие эротические вершины мы смогли бы покорить, если бы не госпожа Хоуль, которая стучала в дверь каждые пять минут.
– Ваш посетитель уже ушел?
– Нет еще, – говорила я, стараясь дать ей понять тоном своего голоса, что мы с Тони бьемся над кроссвордом в «Таймс».
– Извини, – шептал Тони.
– Это не твоя вина.
Это был сизифов труд – катить мяч нашего удовольствия вверх по склону только для того, чтобы он опять скатился вниз после стук-стук-стук госпожи Хоуль.
– Нет еще, госпожа Хоуль.
Наконец-то мы добрались до вершины, как раз когда госпожа Хоуль принялась стучать в дверь в шестой или седьмой раз:
– Ваш посетитель уже ушел?
Я не смогла до конца сдержать крик экстаза, но изо всех сил постаралась скрыть его под итальянской речью.
– La sua voluntade – невнятно произнесла я, – nostra pace.
– Что вы говорите?
– На все воля Божия, госпожа Хоуль. На все воля Божия. А теперь не оставите ли вы нас в покое на несколько минут? Мой посетитель скоро уходит.
Было около четырех часов, когда мы пересекали улицу, направляясь к Британскому музею. Это был мой последний шанс увидеть мраморные статуи Элджина. Шел мелкий дождь, так что мы арендовали зонты на стойке в фойе музея. Госпожи Хоуль поблизости не было видно. У нас у обоих были небольшие проблемы с желудком (слишком много острого карри), и пока мы сориентировались в музее, было пора идти в туалет. Я упоминаю об этом только потому, что в женской комнате, переделанной из мужской (там остался ряд писсуаров), был паркетный пол и самые широкие унитазы, какие я когда-либо видела. Я с трудом доставала от одного края до другого.
Тони ждал меня, когда я вышла, и мы пошли мимо египетских скульптур и нереид в галерею Дувин. Мама всегда произносила «Элджин» с мягким «джи», как Элджин в штате Эллинойс, или часы «Элджин», но Тони произносил его с твердым «джи», и я поняла, что мама никогда не слышала это слово, только читала в книгах.
К этому времени я поняла, почему откладывала посещение музеев. Я немного боялась поставить себя на мамино место, смотреть для нее. Я боялась, что буду разочарована, боялась, что не смогу увидеть своими глазами то, что она так хорошо видела в воображении. И в большей или меньшей степени так и произошло.
В своем «Введении в класс искусства» в школе имени Эдгара Ли мама всегда посвящала две полные лекции мраморным скульптурам Элджина. Я посещала эти лекции больше одного раза и думала, что довольно хорошо представляю себе, чего ожидать, но я не была готова к фрагментарному характеру выставки или самих скульптур. В маминых лекциях статуи отражали торжественную, праздничную церемониальную процессию, в которой принимали участие все жители, и в которой история жизни каждого человека соединялась воедино с историей всего сообщества, и такое единение лечило раны каждого отдельного человека. Она любила рассказывать об этой целительной силе великого искусства. Это было то, чего я хотела, – чтобы что-то лечило раны человека. Но в галерее Дувин было трудно найти отдельного человека, уж обо всем сообществе. Руки и ноги были оторваны, пенисы тоже. Головы либо оторваны, либо разбиты. Я знала, что мне следовало быть в восторге, ведь каждого, кто когда-либо видел эти мраморные статуи переполняли чувства, по крайней мере, тех знаменитостей, о которых мама рассказывала. Но я не была ошеломлена. Я была, как и боялась, разочарована.