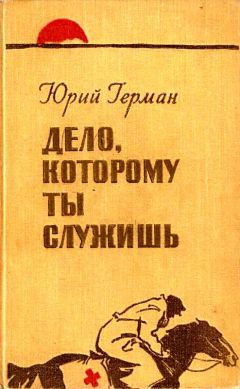Бен Элтон - Два брата
Прежде чем уйти.
У него был план. О нем он поведал Фриде в своей последней записке. Вольфганг оставил ее на кухонном столе, за которым было столько совместных трапез.
Записку писал на обратном пути в Берлин.
Моя самая дорогая, милая и любимая Фредди, начал он.
Пожалуйста, не сердись на меня. Ты ведь знаешь, что я поступаю правильно.
А еще знай, что свой последний день я провел в обществе величайших людей на этом свете. Конечно, лучше бы я провел его с тобой. Но я не смог. Ты бы, как всегда, догадалась и стала меня удерживать.
Фред. Ты знаешь, что я должен тебя покинуть.
Ты ВПРАВДУ знаешь.
Ни одна страна в мире не согласится принять такого беженца. Я безнадежно разрушен. Если ты будешь настаивать (а ты будешь, я знаю), чтобы я ехал с вами, ты никогда не вырвешься из этого ада, и тогда всех нас ждет скорый и ужасный конец.
Ты должна уехать вместе с Паулем. Всем сердцем надеюсь, что и Оттси вырвется. Но ничего не выйдет, если я буду с вами.
И оттого мне надо покинуть Германию другим путем.
Я ухожу без сожалений.
Пожалуйста, поверь!
Поверь всем сердцем, иначе душе моей не знать покоя.
О чем жалеть? Ведь жизнь моя прошла с тобой. Никто из живущих и ушедших не изведал земного времени прекраснее моего. Жизни с тобой.
И с нашими мальчиками.
Но время это закончилось. Семнадцать лет любви.
Пусть их было бы пять или пятьдесят — минута, час или полстолетия ничего бы не изменили.
Одна и та же мера времени. Понимаешь?
Потому что в этом времени, сколько бы оно ни длилось по земным меркам, заключена вся любовь, какая только есть на свете.
Ха! Вот видишь? Я могу кое-что сказать, не пытаясь сострить.
Ну все, до свидания.
Фредди.
Повторяю.
Ты знаешь, что я прав. Знаешь, что я должен так поступить.
Еще надеюсь, что небесный хор (в который в эти последние минуты хочется верить) немного разбирается в джазе!
Только твой
Вольф.
В Берлин ночной поезд прибыл еще затемно. Вольфганг взял такси. Роскошь была вынужденной — он хотел приехать домой, пока Фрида не проснулась.
Вольфганг попросил таксиста подождать и осторожно поднялся по лестнице. Лифт мог бы разбудить Фриду. Изо всех сил сдерживая хрип пораженных легких, он одолел лестничные пролеты и затаил дыхание перед своей квартирой. Потом прокрался внутрь и положил записку на кухонный стол, придавив ее ключом от входной двери. Взял трубу и на цыпочках пошел к выходу. Не останавливаясь, не оборачиваясь. Он знал, что иначе не совладает с искушением забраться в постель и поцеловать любимую.
А на улице его ждало такси.
Проснувшееся солнце неспешно подбирало краски утра. Вольфганг попросил отвезти его на старый мост Мольтке.
На середине моста вышел из машины и взглядом ее проводил.
Потом взял трубу и заиграл, прислонившись к каменному парапету над центральной аркой. Он играл «Мэкки-нож» — скорбный завораживающий хук Вайля, подхвативший зловещие брехтовские строки об акульих зубах и скрытом клинке.
Два-три раза остановился и перевел дух, чтобы доиграть короткую мелодию. Истлевшим легким не давались даже несколько нот.
Потом, не выпуская трубу, Вольфганг Штенгель перегнулся через парапет и бросился в Шпрее.
Позже тело его выловили из реки и надлежащим образом засвидетельствовали самоубийство. Но Фрида знала, что муж ее не покончил с собой. Как и сотни других евреев, оборвавших свои жизни в тот год, когда весь мир еще считал Гитлера великим вдохновителем немецкого народа.
— Моего мужа убили, — сказала Фрида. — Их всех убили.
Другие дети Фриды
Берлин, 1938 г.
Весной 1938 года германское правительство лопалось от гордости. Была одержана очередная победа — общеизвестное поглощение Австрии.
На юге страны это событие породило разнузданную антисемитскую оргию невиданной злобы и жестокости.
Распаленные всеобщим аппетитом к безжалостному зверству, нацисты затеяли так называемую «ариизацию» имущества рейха.
— Я думаю, они хотят забрать наше жилье, — сказала Фрида, когда в воскресенье, как обычно, пришла проведать родителей.
— Глупости! — проворчал герр Таубер, посасывая пустую трубку, в которой нынче редко бывал табак. — Я в это не верю.
— Папа! Они собираются инвентаризировать имущество. Недвижимость, пожитки и прочее.
— Ну и что, обычная перепись, — не сдавался быстро старевший отец. — Только учет не людей, а собственности.
— Да, папа, нашей. И больше ничьей. Нацисты хотят точно знать, чем мы владеем. Я думаю, цель одна — рано или поздно украсть нашу собственность. Иначе зачем список еврейских пожитков озаглавливать «Имущество рейха»? У них же ни стыда ни совести.
Старики бурчали, угощаясь кофе и хлебом с маслом.
— Сама подумай, дорогая, — сказала фрау Таубер. — Если они заберут наше жилье, где нам жить? Нас тысячи, они же не могут оставить нас на улице. Нет, я в это не верю. Это неразумно.
Фрида не стала спорить. Она жалела, что затронула тему вообще. Зачем ее родителям быть реалистами? Добра это не принесет, ничего изменить они не могут. И уехать не смогут, даже если б захотели. Ни одна страна не выдаст им визу. Пусть уж лучше отрицают очевидное и живут в надежде, что когда-нибудь безумие закончится. Пусть считают, что немецкое государство не может окончательно превратиться в бандитскую группировку.
На этом хрупком оптимизме многие евреи пробирались сквозь жизнь, отказываясь принять, что дело плохо и наверняка станет еще хуже. Фридины родители, например, не желали говорить о самоубийстве Вольфганга. Для них всякий человек, потерявший надежду, пробивал очередную брешь в тонких доспехах тех, кто своей защитой избрал слепую веру.
— Конечно, тебе есть смысл уехать, милая, — сказала фрау Таубер. — Но не нам. Все, что мы знаем и ценим, здесь, в Германии, и тут мы останемся.
Однако Фрида ошеломила родителей.
— Я тоже не уеду, мама, — сказала она. — Я так решила. Никакой эмиграции.
Родители обеспокоенно переглянулись. Фрида знала, о чем они думают. Старики верили в возрождение верховенства закона, лишь когда речь шла о них. Но когда дело касалось дочери и внуков, они реалистичнее смотрели на будущее евреев.