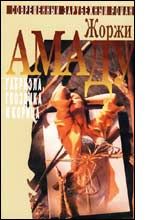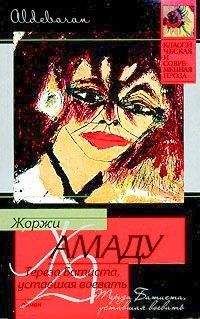Жоржи Амаду - Большая Засада
Безымянная лихорадка, чума — народ утверждает, что она даже обезьян убивает. О ней говорили тихо и почтительно, это было потустороннее чудище, бич этих мест, издавна терзавший край какао, города и плантации, собирая тут и там причитавшуюся ему жертву. О ней избегали упоминать в разговорах, о ней старались забыть в надежде, что так и она забудет о них и оставит их в покое.
Пока проклятая убивала выборочно, не спеша, пока не начинала душить, ей платили мрачную дань, сосуществовали с ней покорно, но когда поселялась в каком-нибудь местечке, превращаясь в эпидемию и начиная косить народ, страх превращался в панику и вместо тихого и кроткого плача отца и матери, жены, мужа и сына к небесам летели вопли и проклятия.
Она пожирала человека за несколько дней. Сжигала тело, лишала сил. Голова разрывалась от боли, разум помутнялся, тело источало зловонные газы, из кишок изливался смрадный понос. Верная смерть, уродливая — тут ничего нельзя было поделать.
Все прочие виды лихорадки имели названия: перемежающаяся лихорадка, болотная лихорадка, афтоз, которому подвержены люди и скот, желтая лихорадка и бубонная чума — одна опаснее другой. Впрочем, средство и управа были на все, даже на черную оспу: к волдырям прикладывали сушеный коровий помет, — но от безымянной лихорадки ничего не помогало, это была просто лихорадка, без всяких дополнительных определений, без диагнозов и рецептов, и пациент находился в руках Бога — безжалостного Бога чумы. В ход шли потогонные средства, припарки, клизмы, зелья и снадобья, отвары лесных кореньев и листьев, рецепты, переходившие от отца к сыну. Они безотказно действовали в случае любого другого недуга, при дурных болезнях: например при сифилисе и гонорее, но от них не было никакого толка при лихорадке, не имевшей имени и не щадившей даже обезьян. Оставались молитвы, прошения, благословения, колдовство и обеты.
Она приходила внезапно, без предупреждения. Валила с ног, сдирала шкуру, сжигала, выворачивала кишки, мутила разум, превращала даже самого сильного мужчину в тряпку, прежде чем убить. Ничего нельзя было поделать — только ждать, когда она набьет брюхо и, так же неожиданно, как и явилась, уйдет, чтобы рыть могилы в других местах. Была ли в этом какая-то цикличность, или же она подчинялась воле случая? Она уходила, потому что насытилась или потому что Бог внял молитвам? Все могло быть. Если в городах — Ильеусе и Итабуне — доктора с кольцами и трубками не знали, как ее распознать и как с ней бороться, то в медвежьих углах народу под угрозой смерти оставалось только бежать или ждать, когда лихорадка решит уйти, убраться прочь, унося с собой смертные приговоры, не подлежавшие обжалованию. Страшная смерть, грязная и зловонная. Ужасная.
8Чума длилась две недели. Она пришла в день праздника, показалась на ярмарке — тогда заболел Амброзиу, — а через два воскресенья поймала ветер, оседлала его и полетела прочь, чтобы убивать дальше. Она оставила на цветущем кладбище Большой Засады и в ее истории еще девять крестов.
Лихорадке почти удалось тихо, без шума и грохота, сделать то, что не сумело наводнение, — обратить население в бегство, опустошить деревню. Если бы она продлилась еще неделю, разве нашлись бы безумцы, способные оставаться здесь в ожидании смерти?
Исход начался в среду, когда похоронили первых жертв — старого Амброзиу и проститутку Клементину и стал активнее в последующие дни, когда количество смертей увеличилось. В набат забила дона Эстер, жена Лупишсиниу, особа, знающая толк в болезнях и лекарствах, — лихорадка пришла в Большую Засаду! Это было мнение знатока: тратить деньги на лекарства — просто глупость, давать обеты — потеря времени. В Большой Засаде не было аптеки, только четыре пузырька с микстурами в магазинчике Турка. Даже церкви не было, чтобы помолиться. Ничего другого не оставалось — только убираться из этой несчастной дыры, жалкой, а теперь еще и зачумленной.
Дона Эстер сделала то, что должна была, распространив тревогу среди соседей, испытывая удовлетворение в силу пренебрежения, которое питала к этому местечку, своего нежелания жить в такой отсталой деревушке. Помимо прочих поводов для раздражения хватало и того, что муж тут крутил любовь с одной девкой. Ладно бы это была настоящая любовница, его собственная содержанка, — тогда все было бы достойно, это еще куда ни шло, но ведь это обычная проститутка — перед всеми ноги раздвигает. Дона Эстер попыталась зазвать с собой сына, но Зинью отказался с ней ехать. Она пожала плечами — ну и ладно! Лучше уж одиноко жить в Такараше, чем помирать в этом смраде вместе со всей семьей. Она собрала пожитки и унесла ноги, не оглядываясь и подавая тем самым пример.
В связи с мрачными обстоятельствами жуткие новости становились в два раза страшнее. На фазендах, в селениях, на местах ночевок, на дорогах рассказывали ужасные вещи. С Большой Засадой вот-вот произойдет то, что случилось с одним безымянным селением вблизи Агуа-Преты, — все жители отдали Богу душу. Вблизи Агуа-Преты, Секейру-де-Эшпинью или Рио-ду-Брасу — география менялась в зависимости от рассказчика. Росли размеры местечка, количество трупов, но одна деталь оставалась неизменной — никого не осталось, чтобы рассказать о случившемся. Что касается Большой Засады, то даже капитана Натариу да Фонсеку записали в жертвы чумы — он, должно быть, сейчас уже в аду, получает по грехам своим. Были и такие, кто тайком выпил глоточек за упокой.
Проститутки, по сути своей склонные к перемене мест, пустились в путь. Лихорадка, начав собирать дань на плантациях уроженцев Сержипи, перешла по мосту и начала бушевать в хижинах Жабьей отмели: за два дня умерли три женщины. Бегство стало почти всеобщим: вместе с караванами или поодиночке, с узелком в руках или на голове, проститутки сматывали удочки. Одна из них, Глория Мария, ушла, уже мучаясь рвотой и головокружениями, — забрала лихорадку с собой. В пути ее рвало в зарослях, и она умерла сразу по прибытии в Такараш — там ее похоронили, и, таким образом, количество новых могил на кладбище Большой Засады не дошло до десяти.
Некоторые погонщики поменяли маршрут караванов, какое-то время избегая тропинку, оживление в сарае уменьшилось. На вторую неделю масштаб исхода возрос, мысль о бегстве охватила селение. Пытаясь, хотя и безуспешно, увлечь с собой Жозе душ Сантуша и сию Клару — как же мы бросим скотину и посадки? — Баштиау да Роза взял жену и дочь и пошел искать приют и безопасность в Такараше. Увидав, как он запирает дом на засов, те, кто еще колебался, лишились всяческих сомнений. И решились.
9Прошло семь дней с того воскресенья, когда Зилда поделилась с капитаном своими опасениями, умерли пять человек. Все так же за завтраком — только за столом было тихо и не было гостей — она вернулась к разговору в той же точке, в какой оставила его:
— Она распространилась.
Неделя выдалась тяжелой, грустной. Натариу был мрачен, словно загнанный зверь. К нему приходили обеспокоенные, удрученные люди, будто капитан был врачом или знахарем. Они ждали от него каких-то мер, какого-то решения, а он не мог им предложить ни мер, ни решений, ни даже ободряющего слова — слова были бессмысленными и пустыми, звучали фальшиво. Народ не искал утешения в трауре, а хотел спасения для живых. Зе Луиш сел на скамью на веранде, обливаясь слезами, — нет ничего более мучительного и нестерпимого, чем плачущий мужчина, потерявший стыд и гордость, забывший о том, кто он есть.
Зилда повторила громче — ей хотелось получить ответ:
— Она распространилась.
Капитан мял в руках шарик из муки и фасоли:
— Говорят, что слег еще один родич сеньоры Леокадии. Мужчина или женщина? Ты не знаешь? — Клан из Эштансии в пятницу похоронил юного Танкреду.
— Мальчик, Мариозинью. Десять лет ему было, не больше. Он отсюда не вылезал — они с Пебой были неразлейвода.
— Ты так говоришь, будто он уже умер.
— Боже меня упаси! Не хочу ничего пророчить, но ты видел, чтобы кто-нибудь выжил? Я о таком не слыхала.
Она уставилась на оловянное блюдо и перемешала еду ложкой:
— Я о детях думаю. Как тебе кажется — может, мне лучше уехать с ними на плантацию? Пока тут все не пройдет.
Капитан обвел взглядом ребятню: дети, не вникая в разговор, с аппетитом ели — одни за столом, другие на полу, потом он посмотрел на жену:
— Ты уже заметила, сколько закрытых домов? Сколько народу уже ушло? Если мы уедем, если ты с детьми спрячешься на плантации, на следующий день в Большой Засаде никого не останется. Мы не можем так поступить.
Зилда положила ложку и подняла на него глаза:
— Я чужих детей на воспитание взяла.
— Здесь их дом, и мы отсюда никуда не уйдем. Никто. — Он отряхнул от еды руки — одну об другую. — Разве только на кладбище.
Зилда кивнула в знак согласия: они не спорили, они разговаривали. Она знала мужа, знала, что он думает: у кого власть и право, у того и обязанности. Спорить или, того хуже: противиться было ни к чему. Она сделала то, что должна была: высказала свои опасения, — а теперь он будет решать, она же — подчиняться.