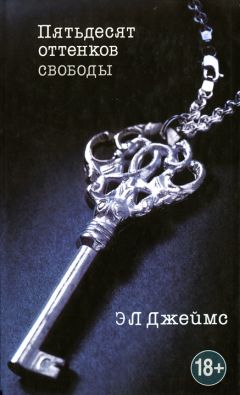Виктор Пелевин - Чапаев и Пустота
За стеной раздался взрыв, на этот раз такой близкий, что стекла в окне задребезжали. Я явственно различил шорох рвущих листву осколков.
– Знаете что, Василий Иванович, – сказал я, – давайте завершать с теорией. Лучше придумайте что-нибудь практическое.
– Практически, Петька, я тебе скажу, что, если ты боишься, нам обоим скоро хана. Потому что страх всегда притягивает именно то, чего ты боишься. А если ты ничего не боишься, ты становишься невидим. Лучшая маскировка – это безразличие. Если ты по-настоящему безразличен, никто из тех, кто может причинить тебе зло, про тебя просто не вспомнит и не подумает. Но если ты будешь елозить по стулу, как сейчас, то через пять минут здесь будет полно этих ткачей.
Я вдруг понял, что он прав, и ощутил стыд за свою нервозность, которая выглядела особенно жалкой на фоне его великолепного равнодушия. Разве не я сам совсем недавно отказался ехать с Котовским? Я был здесь потому, что выбрал это сам, и глупо было тратить эти, быть может, последние минуты моей жизни на опасения и страхи. Я посмотрел на Чапаева и подумал, что, в сущности, так и не узнал ничего про этого человека.
– Скажите, Чапаев, а кто вы на самом деле?
– Ты, Петька, лучше себе ответь, кто ты на самом деле. Тогда и про меня все поймешь. А то ты все время говоришь «я, я, я», совсем как этот бандит из твоего кошмара. А что это такое – «я»? Кто это? Посмотри-ка сам.
– Я хочу посмотреть, но…
– Так если ты хочешь, почему же ты сейчас смотришь не на себя, а на это «я», на это «хочу», на это «посмотреть» и на это «но»?
– Хорошо, – сказал я, – тогда ответьте на мой вопрос. Вы можете на него просто ответить?
– Могу, – сказал он, – толку-то.
– Кто вы, Чапаев?
– Не знаю, – ответил он.
По дощатым стенам бани щелкнуло две или три пули, полетели выбитые ими щепки, и я инстинктивно пригнул голову. Из-за двери донеслись тихие голоса – кажется, они что-то обсуждали. Чапаев налил два стакана, и мы, не чокаясь, выпили. После некоторого колебания я взял со стола луковицу.
– Я понимаю, что вы имеете в виду, – сказал я, откусывая от нее, – но ведь можно, наверно, ответить и по-другому?
– Можно, – сказал Чапаев.
– Так кто же вы, Василий Иванович?
– Я? – переспросил он и поднял на меня глаза. – Я отблеск лампы на этой бутылке.
Мне показалось, что свет, отражавшийся в его глазах, хлестнул меня по лицу. И тут, совершенно неожиданно для себя, я все понял и вспомнил.
Удар был таким сильным, что в первый момент я подумал, что прямо в центре комнаты разорвался снаряд. Но я почти сразу пришел в себя. У меня не было потребности говорить что-то вслух, но инерция речи уже перевела мою мысль в слова.
– Самое интересное, – тихо прошептал я, – что я тоже.
– Так кто же это? – спросил он, указывая на меня пальцем.
– Пустота, – ответил я.
– А это? – он указал пальцем на себя.
– Чапаев.
– Отлично! А это? – он обвел рукой комнату.
– Не знаю, – сказал я.
В тот же миг звякнуло пробитое пулей окно, и стоявшая между нами бутыль лопнула, облив нас остатками самогона. Несколько секунд мы молча глядели друг на друга, а потом Чапаев встал, подошел к лавке, на которой лежал его китель, снял с него серебряную звезду и кинул ее мне через всю комнату.
Его движения неожиданно стали быстрыми и точными; трудно было поверить, что это тот самый человек, который только что пьяно покачивался на табурете, бессмысленно глядя на бутыль. Схватив со стола лампу, он быстро развинтил ее, выплеснул керосин на пол и швырнул в него горящий фитиль. Вслед за керосином вспыхнул разлившийся самогон, и комната осветилась мрачным светом занимающегося пожара. Лицо Чапаева, на которое легли глубокие тени от горящего на полу огня, вдруг показалось мне очень древним и странно знакомым. Одним движением опрокинув стол, он нагнулся и поднял узкий деревянный люк с металлическим кольцом.
– Пошли отсюда, – сказал он, – здесь больше делать нечего.
Нащупав лестницу, я стал спускаться в холодную сырую темноту. Дно колодца оказалось метрах в двух под уровнем пола; сначала я не мог понять, что мы собираемся делать в этой яме, а потом моя нога, которой я пытался нащупать стену, вдруг провалилась в пустоту. Сапог Чапаева, спускавшегося следом, задел мою голову.
– Вперед! – скомандовал он. – Живо!
От лестницы вел узкий и низкий ход, укрепленный деревянными подпорками. Я пополз вперед, безуспешно пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте. Судя по довольно чувствительному сквозняку, выход был не очень далеко.
– Стой, – шепотом сказал Чапаев. – Надо минуту выждать.
Он был метрах в двух сзади. Я сел на землю и прислонился спиной к одной из подпорок. Долетали неразборчивые крики и шум; один раз я четко различил голос Фурманова, оравшего: «Не лезь, мать твою! Сгоришь! Я говорю, нет их там – ушли! А лысого поймали?» Я подумал об этих людях, мечущихся в тяжелых облаках дыма среди безобразных химер, созданных их коллективно помутненным разумом, и мне стало невероятно смешно.
– Эй, Василий Иванович! – тихо позвал я.
– Чего? – отозвался Чапаев.
– Я одну вещь понял, – сказал я. – Свобода бывает только одна – когда ты свободен от всего, что строит ум. Эта свобода называется «не знаю». Вы совершенно правы. Знаете, есть такое выражение: «Мысль изреченная есть ложь». Чапаев, я вам скажу, что мысль неизреченная – тоже ложь, потому что в любой мысли уже присутствует изреченность.
– Это ты, Петька, хорошо изрек, – отозвался Чапаев.
– Как только я знаю, – продолжал я, – я уже не свободен. Но я абсолютно свободен, когда не знаю. Свобода – это самая большая тайна из всех. Они, – я ткнул пальцем в низкий земляной потолок, – просто не знают, до какой степени они свободны от всего. Они не знают, кто они на самом деле. Они… – меня скрутило в спазмах неудержимого хохота, – они думают, что они ткачи…
– Тише, – сказал Чапаев. – Кончай ржать как лошадь. Услышат.
– То есть нет, они, – задыхаясь, выговорил я, – они даже не думают, что они ткачи… Они это знают…
Чапаев пихнул меня сапогом.
– Вперед, – сказал он.
Я несколько раз глубоко вдохнул, чтобы прийти в себя, и пополз дальше. Остаток пути мы проделали молча. Наверно, из-за узости и тесноты подземного коридора мне показалось, что он невероятно длинен. Под землей пахло сыростью и отчего-то сеном, причем этот запах чувствовался все отчетливей. Наконец мои вытянутые вперед руки уперлись в земляную стену. Я встал на ноги, выпрямился и больно ударился головой обо что-то железное. Ощупав темноту вокруг себя, я пришел к выводу, что стою в неглубокой яме, над краем которой находится какая-то железная плоскость. Между этой плоскостью и поверхностью земли оставался зазор примерно в полметра; я протиснулся в него, прополз метр или два, раздвигая заполняющее его сено, и наткнулся на широкое колесо из литой резины. Тут же я вспомнил огромный стог, возле которого постоянно дежурил неразговорчивый башкир с винтовкой, и понял, куда делся чапаевский броневик. Через секунду я уже стоял возле стога – с одной его стороны сено было разбросано, и виднелась приоткрытая клепаная дверь.