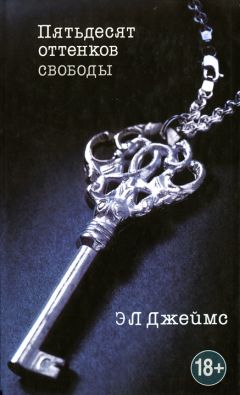Виктор Пелевин - Чапаев и Пустота
Чапаев встал с места, открыл дверь и выпрыгнул наружу. Я услышал, как ударились в землю его сапоги. Анна вылезла следом, а я все сидел на диване, глядя на английский пейзаж на стене. Река, мост, небо в тучах и какие-то неясные развалины – неужели, думал я, неужели?
– Петька, – позвал Чапаев, – ты что там сидишь?
Я встал и шагнул из двери наружу.
Мы стояли на идеально правильном круге засыпанной сеном земли диаметром метров в семь, который обрывался в никуда. За его границей не было ничего – там был только ровный неяркий свет, про который трудно было хоть что-нибудь сказать. На самом краю круглой площадки лежала половина винтовки с примкнутым штыком. Мне вдруг вспомнилось то место в «Балаганчике» Блока, когда прыгнувший в окно Арлекин прорывает бумагу с нарисованной на ней далью и в бумажном разрыве появляется серая пустота. Я оглянулся. Мотор броневика все еще работал.
– А почему остался этот остров? – спросил я.
– Слепая зона, – сказал Чапаев. – Мизинец указал на все, что было в мире за пределами этой площадки. Это как тень от ножки лампы.
Я шагнул в сторону, и Чапаев схватил меня за плечи.
– Куда пошел… Не попади под пулемет.
Он повернулся к Анне.
– Анна, а ну-ка… От греха подальше.
Анна кивнула и осторожно зашла под короткий раструб ствола.
– Смотри внимательно, Петька, – сказал Чапаев.
Анна зажала папиросу в зубах, и у нее в руке появилось маленькое круглое зеркальце. Она подняла его вверх на уровень ствола, и, прежде чем я успел понять, что сейчас произойдет, броневик исчез. Это произошло мгновенно и неправдоподобно легко, как будто кто-то выключил волшебный фонарь, и картинка на простыне погасла. Остались только четыре неглубоких вмятины от колес, в которых медленно распрямлялась примятая трава. И ничего уже не нарушало тишину.
– Вот и все, – сказал Чапаев. – Этого мира больше нет.
– Черт, – сказал я, – там ведь папиросы остались… Послушайте! А как же шофер?
Чапаев вздрогнул и испуганно поглядел сначала на меня, а потом на Анну.
– Черт возьми, – сказал он, – а я про него забыл… А ты, Анна, что же ты не сказала?
Анна развела руками. В этом жесте не было ни капли искреннего чувства, и я подумал, что она, несмотря на всю свою красоту, вряд ли сумела бы стать актрисой.
– Нет, – сказал я, – тут что-то не так. Где шофер?
– Чапаев, – сказала Анна, – я больше не могу. Разбирайтесь сами.
Чапаев вздохнул и подкрутил усы.
– Успокойся, Петька. Никакого шофера на самом деле не было. Ну ты же знаешь, есть такие бумажки с особой печатью, прилепляешь на бревно, и…
– А, – сказал я, – так это голем был. Понятно. Не надо меня только полным идиотом считать, хорошо? Я давно заметил, что он странный. Однако, Чапаев, с такими талантами вы могли бы сделать в Петербурге неплохую карьеру.
– Чего я не видел в твоем Петербурге, – сказал Чапаев.
– Стойте, а Котовский? – спросил я в волнении. – Он что, тоже исчез?
– Поскольку его никогда не существовало, – сказал Чапаев, – на этот вопрос довольно сложно ответить. Но если тебя по-человечески волнует его судьба, то не тревожься. Уверяю тебя, что Котовский, точно так же, как ты и я, в силах создать свою собственную вселенную.
– А мы в ней будем присутствовать?
Чапаев задумался.
– Интересный вопрос, – сказал он. – Мне бы такой никогда не пришел в голову. Возможно, что и будем, но в каком качестве – не берусь судить. Откуда мне знать, какой мир создаст Котовский в своем Париже. Или, правильнее сказать, какой Париж создаст Котовский в своем мире.
– Ну вот, – сказал я, – опять софистика.
Повернувшись, я пошел к краю площадки. Но до самого края дойти не сумел – когда до границы земляного круга осталась пара метров, у меня закружилась голова и я с размаху сел на землю.
– Вам плохо? – спросила Анна.
– Мне замечательно, – ответил я, – но что мы тут будем делать? Жить втроем?
– Эх, Петька, – сказал Чапаев, – объясняешь тебе, объясняешь. Любая форма – это пустота. Но что это значит?
– Что?
– А то значит, что пустота – это любая форма. Закрой глаза. А теперь открой.
Не знаю, как описать словами эту секунду.
То, что я увидел, было подобием светящегося всеми цветами радуги потока, неизмеримо широкой реки, начинавшейся где-то в бесконечности и уходящей в такую же бесконечность. Она простиралась вокруг нашего острова во все стороны насколько хватало зрения, но все же это было не море, а именно река, поток, потому что у него было явственно заметное течение. Свет, которым он заливал нас троих, был очень ярким, но в нем не было ничего ослепляющего или страшного, потому что он в то же самое время был милостью, счастьем и любовью бесконечной силы – собственно говоря, эти три слова, опохабленные литературой и искусством, совершенно не в состоянии ничего передать. Просто глядеть на эти постоянно возникающие разноцветные огни и искры было уже достаточно, потому что все, о чем я только мог подумать или мечтать, было частью этого радужного потока, а еще точнее – этот радужный поток и был всем тем, что я только мог подумать или испытать, всем тем, что только могло быть или не быть, – и он, я это знал наверное, не был чем-то отличным от меня. Он был мною, а я был им. Я всегда был им, и больше ничем.
– Что это? – спросил я.
– Ничего, – ответил Чапаев.
– Да нет, я не в том смысле, – сказал я. – Как это называется?
– По-разному, – ответил Чапаев. – Я называю его условной рекой абсолютной любви. Если сокращенно – Урал. Мы то становимся им, то принимаем формы, но на самом деле нет ни форм, ни нас, ни даже Урала. Поэтому и говорят – мы, формы, Урал.
– Но зачем мы это делаем?
Чапаев пожал плечами.
– Не знаю.
– А если по-человечески? – спросил я.
– Надо же чем-то занять себя в этой вечности, – сказал он. – Ну вот мы и пытаемся переплыть Урал, которого на самом деле нет. Не бойся, Петька, ныряй!
– А я смогу вынырнуть?
Чапаев смерил меня взглядом с ног до головы.
– Так ведь смог же, – сказал он. – Раз тут стоишь.
– А я буду опять собой?
– Петька, – сказал Чапаев, – ну как ты можешь не быть собой, когда ты и есть абсолютно все, что только может быть?
Он хотел сказать что-то еще, но тут Анна, докурив свою папироску, бросила ее на землю, аккуратно загасила ногой и, даже не посмотрев на нас, разбежалась и бросилась в поток.
– Вот так, – сказал Чапаев. – Правильно. Чем лясы точить.
Глядя на меня с предательской улыбкой, он начал пятиться спиной к краю площадки.
– Чапаев, – испуганно сказал я, – подождите. Вы не можете так меня бросить. Вы должны хотя бы объяснить…
Но было уже поздно. Земля под его каблуками осыпалась, он потерял равновесие и, раскинув руки, упал спиной в радужное сияние – совсем как вода, оно раздалось на миг в стороны, потом сомкнулось над ним, и я остался один.