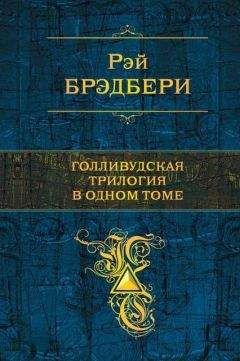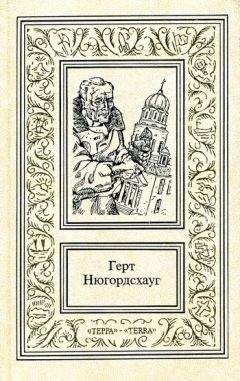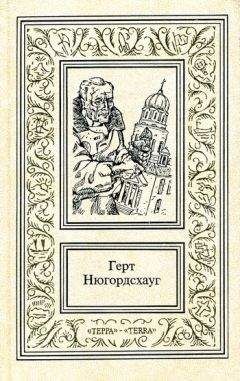Юрий Герт - Ночь предопределений
— Но пока… — Он повел плечами, точным движением ноги послал в пропасть лежавший на краю камень. — Пока надо спроектировать город, а тут снова — риск. Ведь все, о чем вы говорили — там, в клубе, — это ведь риск, эксперимент. Об этом больше господа литераторы в книжках пишут. Что нам стоит, как говорится, дом, а тем паче — город построить, нарисуем — будем жить… Так ведь, господа хорошие, ведь такой город — это миллионы, и бросать эти миллионы на эксперименты… Кто позволит?..
— А вы, пожалуй, правы, — сказал он, помолчав, и вздохнул всей грудью. — Во всем этом что-то есть… Что-то такое… — Он дернул подбородком — снизу вверх. — Это вам не Москва, не Питер… И не Чикаго… Нет, не Чикаго…
Он смотрел вдаль, сосредоточенно-настороженный, квадратные стекла его очков блестели, но не холодно, заполнявшие их блики казались золотистыми, теплыми.
Они вернулись к костру.
Откуда они брали топливо? — подумал Феликс. — Но ведь, откуда-то брали топливо здешние паломники…
Кенжек по-прежнему, с хозяйственной экономностью, подкладывал в огонь щепки, лишь бы не дать пламени угаснуть. Но в полумраке грота от этого сделалось только уютней, все жались к костру.
И вода… Где-то здесь, поблизости, должна быть вода, — подумал Феликс, присаживаясь возле Бека.
Он поймал на себе взгляд Айгуль, удивленный, как если бы у него в лице обнаружилось для нее непривычное. Он улыбнулся ей, и она ответила улыбкой. Черная прядь крылом упала ей на щеку, скрыла глаза. Она повернулась к Спиридонову, рядом с которым сидела. И там, среди тех, кто спускался сюда, крался, стараясь не зашуметь, не заскрипеть осыпью, был Зигмунт, — подумал Феликс. Был… Вот ведь какая штука… Он ведь солдат, и когда на рассвете весь гарнизон крепости подняли по тревоге…
— Пилькален… — проговорил Спиридонов, глядя в костер и задумчиво щурясь. До их прихода он, видимо, что-то рассказывал и теперь возвращался к оборванной мысли. — Пилькален… — повторил он врастяжку, словно прислушиваясь к звукам своего хриплого голоса.
— Между прочим, — он вскинул на Феликса внезапно повеселевшие маленькие глазки, лицо его вспыхнуло, озарилось, — под Пилькаленом литература мне жизнь спасла! Ну, не жизнь, так хотя бы ногу!.. — Спиридонов с неожиданной ловкостью выбросил из-под себя правую ногу и чуть не ткнулся пяткой в огонь. Держа ее на весу, он подрыгал ногой, поиграл коленным, звучно щелкнувшим суставом, как бы призывая всех убедиться, что у него все в отменном порядке.
— Ей-богу! — Он хлопнул себя по бедру. — Вот здесь у меня планшетка висела, и в ней — книга… Не помню какая, а врать не хочу, помню одно — из «ЖЗЛ», толстенькая… Он убрал ногу на прежнее место и прираздвинул пальцы, у всех на виду, большой и указательный, обозначая толщину. — У нас гаубичная батарея была, ста двадцати двух, да только там, под Пилькаленом, мы прямой наводкой по немцам шпарили, с открытых позиций. Ну, и ахнул где-то поблизости их снаряд, и меня осколком чвырк в бедро… Смотрю, книжку насквозь, а самого еле-еле зацепило, кожу содрало…
И пока они толковали про свои Тамбовы и Курски, а главное — про, разумеется, Беловодию, пока заново вникали в «маршрут» Марка Топозерского, списанный бережно, буква в букву, на разграфленный ротным писарем листочек, и луна была, как сегодня, вполнеба, и с высоты открывался во все концы вольный, неоглядный простор, — за гротом уже ползли, пригибались к земле рыхлые серые тени… Логинъ Поповъ… Фама Дубровинъ… И где-нибудь замыкающим — Зигмунт…
— Это где же — Пилькален? — спросил он. И замыкающим — Зигмунт… Вот когда все началось, для него началось.. — Это Германия?..
— Восточная Пруссия, — сказал Спиридонов. Глаза его горели, в голосе пробилось потаенное торжество. — Наш Третий Белорусский первым в Германию вступил. — Мятое, морщинистое лицо Спиридонова сияло. — 13 января 1945 года. Восточная Пруссия. Пилькален, — повторил он. Все помню.
И все остальное было для него искуплением, — подумал Феликс. — Вся остальная жизнь…
— Это уже после, когда под Фишхаузеном, за Кенигсбергом, контузило, я забывать стал, — добавил Спиридонов с какой-то растерянной, стыдливой улыбкой. — В театре, бывало, всю роль выучу, а закрыл тетрадку — и половину забыл… Вот и пришлось сцену бросить… А так, что раньше, до контузии, все помню, даже самому удивительно, — заключил он, вновь просияв, — Пилькален… Нас двадцать шесть в полк пришло, погодков, а к Дню Победы шестеро осталось. Там ее, голубу, мы и встретили, — в Фишхаузене…
Сердце у Феликса сжалось. Глядя на Спиридонова, на жиденький вихорок у него на макушке, он почему-то вспомнил рассказ Карцева. А ведь он тоже, подумал он о Спиридонове, тоже где-нибудь мог лежать между мраморными колоннами…
— А Темиров до Берлина дошел, — проговорил Сергей, нарушив общее молчание. — Там ему и… — Он отрывисто прищелкнул языком и ребром ладони рубанул себя по плечу.
Или Темиров… — подумал Феликс. — Он тоже…
— Я раз у него спрашиваю, — продолжал Сергей, на которого все теперь смотрели, и голос у него сделался вдруг сиплым, простуженным, как за минуту до того был у Спиридонова, — спрашиваю: с чего это вы такой отчаянный, Казеке? Вам что, жить спокойно не охота? Чего вы все на рожон да на рожон?.. А он: я, говорит, столько всякого-разного перевидел, столько раз мог там остаться, где другие остались, что мне каждый день как подарок…
Огонь в костерке сник и вот-вот, казалось, готов был погаснуть. Все молчали.
Да, искуплением, подумал Феликс. И в этом все дело. Именно в этом!
— Ты подбрось, — сказал Жаик, — подбрось, Кенжек, не скупись…
Кенжек положил на бугорок сонно мерцающих углей две лучинки, крест-накрест.
— Как странно… — вырвалось у Веры, и она поежилась, — она сидела спиной к выходу, откуда в грот втекала ночная прохлада. — Как странно… Неужели все это было?.. — Глаза ее, покруглев, обошли всех, задержавшись на Спиридонове. — Почему на свете столько тяжелого, страшного?.. И как это себе представить — в такую ночь?.. Когда всюду такая тишина, и луна такая волшебная, и такой мир повсюду, такое блаженство… И мы сидим у костра, беседуем, и нам так хорошо… — Она сидела, обхватив руками колени, глядя в огонь застывшими зрачками.
Ребенок, подумал Феликс о ней, подумал с нежностью и жалостью, на миг и сам ощутив себя ребенком, готовым поверить в чудо.
— И кажется, здесь так было всегда… — продолжала Вера. — Было и будет…
В костре потрескивало. Жаик, кряхтя, нагнулся, поддел щепочкой и подбросил в огонь выскочивший из пламени уголек.
— Давно когда-то, — неохотно, с вынужденной добросовестностью историка, проговорил он, — в девятом веке была здесь битва между саками и огузами. Тысячи воинов с обеих сторон погибли. Мы с Айгуль сами находили наконечники стрел, копий — для музея… Там, внизу, — он кивнул на выход из грота, затянутый словно прозрачной голубой кисеей.
Вера не шелохнулась, как если бы слова Жаика облетели ее, не задев. В ее неподвижности ощущалось сопротивление. Будто ей хотелось вопреки всему защитить, уберечь эту ночь, эту тишину…
Вот они что означают, подумал Феликс, пятнышки, черточки — внизу, на равнине… Это тени от мазаров, могильников… А когда-то, перед битвой, там до утра горели костры, и вокруг них грелись те, кто ляжет на другой день в эту землю…
Ему вдруг представилась вереница костров, начало которой дугою уходило в пространство и терялось в нем среди звезд, похожих на искры… Были между ними костры беглецов-несториан, в чужих краях искавших спасения и приюта… Были костры терпеливых мусульманских паломников, жаждущих чуда… Были сноровисто, по-походному, разложенные костры ходоков из уральских станиц, на пути в страну Беловодию… Были привальные костры геологов, с неожиданно и четко мелькнувшим лицом Самсонова… Был их костер, у которого сидели они после долгого, бесконечного дня, проведенного в «рафике», рыщущем по раскаленной степи… Кенжек регулировал огонь экономно, и был он неярок и слаб, но в нем, казалось Феликсу, вместились тысячи тысяч костров. Великое множество людей заполнили грот, и все молча, без слов понимая друг друга, тянули руки к огню, раскрыв ладони, шевеля пальцами навстречу теплу и свету.
Он что-то такое сказал, о кострах, не помянув при этом о костре, который для него был самым явным и зримым — до последнего уголька, до развешенных вокруг для просушки вонючих солдатских портянок… О нем, разумеется, он не сказал ничего, но тем не менее почувствовал себя немножко ограбленным, в суеверной привычке помалкивать и таить все внутри — для заправленной в машинку страницы или хотя бы записной книжки… Но тут ему не пришлось ломать себя, получилось это как-то нечаянно, само собой — он говорил, и чувствовал — говорил хорошо.