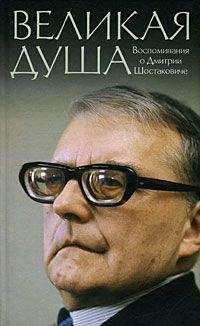Тесса де Лоо - Близнецы
Однако пережитое горе защищало ее от шизофрении коллективной вины и личной невиновности. Для нее, Анны Гросали, этот день стал историческим. Она была не столько немкой, сколько самой одинокой в мире женщиной, пытавшейся вновь обрести чувство защищенности первых детских лет. Ей предстояло вновь завоевать родственные отношения, которые для большинства людей являются столь естественными, что они могут рассчитывать на них в любой ситуации. Анна сошла с трамвая, остановила какого-то прохожего и молча показала ему записку с адресом Лотты. Она не рискнула говорить на своем языке — возможно, ее намеренно послали бы в другую сторону.
— Такие вещи не забываются, — сказала Анна.
— Ты вообще ничего не забываешь, — мрачно заметила Лотта.
— Каким же разочарованием стал этот мой приезд к тебе… Ты отказывалась говорить по-немецки, я могла общаться с тобой лишь через твоего мужа — если это вообще можно было назвать общением. Он, добрая душа, переводил все мои речи — и твои скудные ответы.
— Я забыла немецкий. Меня с этим языком больше ничто не связывало. С таким же успехом ты могла бы говорить на русском.
— Но это невозможно, это же твой родной язык! Даже сейчас ты свободно им владеешь.
— И все-таки это было так.
— В психологическом плане, наверно. Ты не желала иметь со мной ничего общего и прикрывалась незнанием языка… — Анна разгорячилась. — Ты не представляешь, как я переживала. Ты была для меня единственным родным человеком, я хотела узнать тебя поближе, хотела попросить прощения за нашу последнюю встречу. Хотела доказать тебе, что я изменилась. Но ты возилась со своим малышом. Малыш… тот еще пуще усугубил мое отчаяние. Ты купала его, кормила, причесывала… А на меня даже смотреть не желала. Что бы я ни делала, стараясь привлечь твое внимание, я оставалась для тебя пустым местом. Твоего мужа это смущало, в меру сил он старался разрядить напряжение… Уж лучше бы ты набросилась на меня с кулаками и отругала последними словами — тогда я могла бы защищаться. Но нет, ты меня избегала… для тебя я просто не существовала.
Лотта огляделась, ища официанта, чтобы расплатиться за кофе. Она хотела уйти, и как можно скорее. Чем дальше, тем невыносимее становился этот разговор. Теперь ее еще и к ответственности призвали. Мир перевернулся.
— Я не просила тебя приезжать, ты меня не интересовала.
— Это правда, я тебя не интересовала… у тебя был ребенок…
— Ребенок был моим спасением, — огрызнулась Лотта, — он примирил меня с жизнью. Мои дети — для меня всё.
Анна удрученно вздохнула. Ее сестра была по — прежнему недосягаема за стеной своего потомства; сама же она оставалась одинокой и бездетной, хотя помогла на своем веку сотням детей. Она почувствовала смутную боль в груди — переволновалась… как глупо. Глупо было полагать, что она еще сможет расставить все по своим местам.
— Лотта, не уходи, — произнесла она полным раскаяния голосом, — сколько воды утекло с тех пор. Давай… давай поужинаем вместе, я угощаю. Это же чудо, что мы вновь обрели друг друга, здесь, в Спа, давай отпразднуем, пока еще возможно…
Лотта поддалась на уговоры. И действительно, что это она так разнервничалась — стоял воскресный вечер, спешить было некуда. Они перебрались в ресторан и заказали аперитив.
— Я привела сестру, — с гордостью сказала Анна.
Официант вежливо улыбнулся. Лотта вновь почувствовала — раздражение нарастало словно зуд.
— А когда умер твой муж? — спросила Анна. — Он мне понравился. Такой серьезный, образованный… Я бы даже сказала — утонченный…
— Десять лет назад, — грубо перебила ее Лотта.
— От чего?
— Инфаркт. Слишком много работал все эти годы…
— Ты бываешь на его могиле?
— Иногда… — Лотта не хотела распространяться на эту тему. Где уж ей тягаться с вдовой погибшего офицера СС.
— А я два раза в год — в День поминовения усопших и весной, с венком и свечкой.
Дважды в год мать и дочь устраивали ей теплый прием в память о трагической кончине одного и чудесном спасении другой. Она терзалась тем, что могила не освящена, и решила поговорить об этом с несгибаемым священником. Она подождала, пока он закончит проповедь — темой ее была заповедь «Любите врагов ваших».[111] Он еще не снял облачения.
— Святой отец, — остановила она его, — один из трех военных на кладбище — мой муж. Мы католики, мой муж и я. Прошу вас прочесть молитву над его могилой.
Он усмехнулся.
— Мне все равно, католичка вы или нет — они были эсэсовцами.
— Но только что, — напомнила ему Анна, — вы проповедовали: возлюбите врагов своих.
Священник повел одной из своих густых черных бровей, что придало ему самому вид Мефистофеля, и гаркнул:
— Я не освящаю эсэсовских могил.
— Он состоял в СС всего четырнадцать дней, — воскликнула она, — у него не было выбора!
В ответ на ее эмоциональный возглас служитель Господа лишь бросил на нее уничтожающий взгляд и исчез в боковом нефе.
Как бы то ни было, первые деньги, заработанные в кельнском муниципалитете, она скопила на надгробие и крест из песчаника, на котором были выбиты все три имени. Надгробие простояло десять лет, пока к концу пятидесятых не пронесся слух, что прах трех солдат перенесут на только что построенное воинское кладбище. В таком случае, подумала Анна, уж лучше я перевезу его в Кельн. Ей удалось получить разрешение городских властей. И вновь она посетила священника — кладбище находилось под управлением церкви. Бесстрастным голосом введя его в курс своих намерений и предъявив разрешение, она оставила ему свой адрес с просьбой предупредить, когда можно будет перезахоронить прах.
В очередной День поминовения усопших она снова совершила свое ритуальное паломничество. Низко над землей висел густой туман, пахло мокрой листвой и хризантемами. Привычным жестом она толкнула скрипучую калитку. Прошла между рядов могил с горящими свечами; во влажном воздухе их пламя было неподвижно. На месте, где ее путешествие обычно заканчивалось возложением венка и молитвой, она обнаружила безликий квадрат травы, покрытый сухими осенними листьями. Она растерянно огляделась кругом, неужели пошла не в ту сторону? Ее охватила паника — моя могила, где моя могила? По заросшей мхом тропинке, окутанная туманом, приближалась похоронная процессия. Впереди шел священник, за ним следовали деревенские жители со свечками. Она прозрела. Вот он, закостенелый служитель матери — церкви, шествующий в своем торжественном одеянии, похожем на костюм арлекина. Бессердечный ханжа, под руководством которого люди молились за упокой души привилегированных усопших. Возможно, когда-то он и будет призван к ответственности, но сидеть и ждать, пока это случится, она не желала: широкими шагами она направилась ему навстречу и подбоченясь встала прямо перед ним посередине тропинки. Густые брови нахмурились.
— Где моя могила? — бросила она ему в лицо. — Где мой муж? Где мое надгробие? Я же оставила вам адрес, вы обещали меня известить!
Деревенские жители удрученно смотрели на Анну; они прекрасно знали, что она имеет в виду. Патер переместил тяжесть тела с одной ноги на другую и взглянул на нее неодобрительно, как на истеричку.
— Там ничего нет… — крикнула она, — ничего…
Она услышала шум в ушах, звук ее собственного голоса куда-то пропал. Закружилась голова, ее качнуло в сторону; схватившись за голову, она опустилась на шершавый надгробный камень. Пока процессия двигалась дальше, пожилая женщина села перед ней на колени и прошептала:
— Их перевезли в Геролыптайн, на мемориальное кладбище.
Несколько часов спустя, кое-как придя в себя, вместо идиллического кладбища с поросшими мхом надгробиями и обвитыми плющом крестами, она обнаружила в Геролыитайне новое, разделенное на геометрические квадраты поле. Параллельные полосы белого песка пролегали между пронумерованными вертикальными досками. В центре этого поля мертвых она и оставила свой венок. Прости, Мартин, этот венок для всех вас.
— Кресты поставили позднее. Трое солдат по — прежнему лежали рядом. — Анна улыбнулась. — Момент, когда они втроем остались в машине, вместо того чтобы идти воровать яблоки, сплотил их навечно. На многих крестах начертано «неизвестный солдат». Я до сих пор туда прихожу, чаще всего весной. Кладбище расположено на вершине холма, на краю света, в забытом Богом месте. Там всегда тихо. Иногда там прогуливаются мамы с маленькими детьми, потому что это на удивление спокойное место. Я сажусь перед могилой, они заговаривают со мной, спрашивают, откуда я и почему сижу здесь. «Я навещаю своего мужа», — отвечаю я. Они пугаются и не понимают, ведь это было так давно. Да я и сама не понимаю. В последние годы я все чаще задаю себе вопрос: что я тут делаю?
Лотта неопределенно кивнула. Она увлеклась вином, вредным для ее здоровья, — тема разговора была ей не по душе. Анна же болтала без умолку, вдаваясь во все новые и новые подробности.