Джон Гарднер - Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы
От страха за нее и за себя у меня кружилась голова, но делать было нечего. За нами по трапу, не переставая улыбаться, робко поднялись два их матроса. Но даже когда мы потеснили какого-то человека с черной кожаной нашлепкой на одном глазу и острыми красными ушами и заглянули прямо в окно капитанской каюты, тот, кто был на часах, не спохватился.
Внутри собралось довольно много народу, почти никого из них мы раньше не видели — все в меховых шубах (некоторые еще и с серьгой в ухе, а у одного был попугай, отчего, признаюсь, мне стало уж вовсе не по себе). Они стояли все больше спиной к нам. А посредине, за столом, прямо супротив их капитана, сидел Заупокой, разодетый в пух и прах, а подле, как всегда, — слепой Иеремия. В одном Билли Мур мне солгал. Заупокой говорил только по-английски, а их капитан только на своем родном заморском наречии. Но при этом оба разглагольствовали с большим одушевлением, капитан Заупокой неистово дымил трубкой и пропускал по стаканчику виски между залпами словоизвержения, а тот капитан посмеивался как-то гулко, не по-нашему, подливал в стаканы и то и дело недоуменно поглядывал на Иеремию. Тот сидел подле нашего капитана, улыбался, словно в глубоком трансе, и не слышал ни единого слова, даже когда к нему прямо обращались.
— Есть Господь Бог в небесах, — вещал капитан Заупокой, подняв три пальца в белой перчатке. — Наше спасение видно невооруженным глазом, как мне виден нос на вашем лице. Свидетельствую об этом. Вся вселенная одно огромное чудо.
Тот капитан горячо закивал в знак согласия, хотя, по-моему, отнюдь не представлял себе, с чем соглашается.
Заупокой, качнувшись, поднялся на ноги, прошел несколько шагов — до этого я почти не видел, чтобы он ходил без поддержки слепца, — потом вернулся на место, все время разглагольствуя о божией святости и власти и изрыгая дым, словно Везувий, постоял и сел. Я чувствовал, что рядом со мной Августа охвачена сильным волнением. Сам же я совершенно не понимал, что происходит, вся эта абракадабра была выше моего разумения.
— Смерти не существует, — рассуждал меж тем капитан Заупокой. — Я говорю не о таком вздоре, как воскресение на небесах. Отнюдь. Я утверждаю, что эта каюта до верхнего транца набита теми, кто отошел в мир иной. Вот слушайте! — Величаво, как преподобный Дункель, толкующий о Любви, он воздел перст к потолку. — Дух Илии Брауна! — позвал он. — Говори с нами!
Все замерли, глядя в ту точку, куда указывал палец Заупокоя, и вдруг с потолка прозвучал стон, исполненный бесконечной, невыразимой муки. Тогда капитан перевел взгляд и указующий перст на переборку.
— Дух Хайрема Биллингса, если слышишь меня, отзовись!
И снова раздался стон, на этот раз от переборки. Все вокруг меня только рты поразевали. Я покосился на Августу. Она стояла сияющая, с широко раскрытыми глазами, будто новообращенная грешница. А капитан Заупокой говорил:
— Вот видите! Мы находимся в районе Невидимых островов. Иеремия, подай сюда лоции.
Слепец замигал, словно пробуждаясь от транса, и вынул из кармана свернутую в трубку карту. Те, кто были в капитанской каюте, столпились у стола; их капитан поднялся на ноги и низко склонился над столешницей. Иеремия раскатывал карту, и в это время рослый пышноусый матрос рядом со мной тронул меня за плечо и зашептал по-английски: «Это не настоящий капитан, капитана нет в живых. Этот, что здесь всем заправляет…» Тут лицо его исказилось, и он, давясь, упал к моим ногам. Августа, стоявшая от него по другую сторону, вскрикнула, и одновременно с нею я тоже заметил струйку крови. В горло матроса по самую рукоять черненого витого серебра был всажен маленький кинжал. Я сразу подумал на толстяка с черной повязкой и заостренными красными ушами, который стоял у меня за спиной. И что было силы заорал:
— Измена! Пираты!
Один из тех, что столпились в каюте у стола — могучий детина, — обернулся, и я узнал в нем старого знакомца — пирата Благочестивого Джона.
— Измена! — попытался я крикнуть снова, но на нас со всех сторон набросились с воплями матросы, точно стая диких павианов.
Здесь бы истории Джонатана Апчерча и конец пришел, но неожиданно произошла очень странная вещь. Слепец Иеремия раскинул руки, нащупал и обхватил могучую грудь Благочестивого Джона и зашептал что-то прямо в волосатое ухо; Благочестивый Джон закачался, затряс головой, захлопал глазами, как ошарашенный черт, уставившись на капитана Заупокоя. А потом крикнул! «Нет злого умысла! — и покосился на Иеремию. — Нет злого умысла! Отпустите их!»
Иеремия наклонился над капитаном Заупокоем — тот сидел и попыхивал трубкой, словно наблюдал подобные сцены тысячу раз в жизни, — помог ему подняться, они вдвоем вышли из каюты, и дьяволы, державшие меня и Августу, опустили руки по швам, точно кроткие овечки. Словно заговоренные, мы прошли к своей шлюпке, уселись на места и через двадцать минут уже стояли целые и невредимые на палубе «Иерусалима». Августа делала вид, будто озадачена ничуть не меньше моего, однако я отлично знал, что в хитрой ее головке есть немало такого, что недоступно постороннему взгляду. Не дав ей ускользнуть, я поймал ее за руку и прямо сказал:
— Открой мне тайну, Августа. С меня довольно! Говори правду!
При этом я добивался от нее не признания — очевидного и малоинтересного — в том, что сумка на плече капитана предназначена для сбора пожертвований.
— Какую тайну, Джонатан? — У нее задрожали губы. Но я не отпускал ее руку; в голове у меня мелькнула мысль, что черный, пробочный цвет ее кожи кажется не менее естественным, чем прежний белый. Я еще сильнее сдавил ей локоть.
— Открой тайну!
Поблизости стоял Билли Мур и смотрел на нас.
Она испуганно покосилась на меня и сразу же отвела взгляд в сторону. И я вдруг понял, что Августин недуг зашел куда глубже, чем я полагал. Я как бы увидел ее, как она есть — без грима, без подсветки прожекторов. Такая хрупкая, совсем дитя, и однако же вот — обречена на погибель, безнадежно, безжалостно, страшно.
— Сам скоро узнаешь и еще пожалеешь, — шепнула мне она.
И, вырвавшись на свободу, убежала от меня в капитанскую каюту. Билли Мур нахмурился и смотрел себе под ноги.
Когда я пробрался к своей койке, обнаружились неприятности. Кто-то успел перерезать негру горло от уха до уха, исполосовать ножом пропитанную кровью постель и разбросать по полу содержимое моего бедного рундука! Поблизости никого не было видно. Весь в поту, дрожа, теряя голову от тошнотворного запаха крови и еще больше — от своей неблаговидной роли в этой трагедии, я открыл тайник в переборке. Книги были на месте. Непослушными прыгающими пальцами я засветил фонарь, вытащил верхнюю книгу в стопке, сборник стихотворений. Она сама раскрылась, и на представившейся моему взгляду странице я прочел строки:
Млеко нашего обеда
Не киснет в полных сосцах Его…
Палуба стала уходить у меня из-под ног. Я схватился за что-то липкое от крови. Потянулся за следующей книгой, но послышался звук шагов. Сюда идут! Я второпях спрятал стихи, задвинул дощечку и, набрав полную грудь воздуха, испустил истошный вопль:
— Убийство! Спаси нас бог! Убийство!
По-совиному хлопая глазами, вошел Билли Мур, сжимая в руке свайку.
XIXКто убил негра, выяснить так и не удалось. Уилкинс, человек, которого я подозревал больше всех — насколько вообще мог сосредоточить на чем-то свои растрепанные мысли, — отчитался за каждую минуту, ссылаясь на свидетелей. Мы спустили в море пропитанную кровью постель, а вслед за ней и мертвеца. Я был все себя. Словно во сне, доносилось до меня бормотание капитана, читающего отходную. Формально я был не виноват, а поскольку пострадали мои вещи и к тому же я так горячо убивался из-за смерти бедного негра, никто и не подозревал меня. И однако же, видит бог, я был виновен. Я с такой потрясающей ясностью помнил, как, бровью не поведя, пристукнул его по затылку, сделал его полезным для меня предметом — беззащитной жертвой явившегося затем убийцы! Эта память нагнетала по — моим жилам лихорадочное чувство, наверно такое же сильное, как страсть любовника, но только прямо противоположного свойства: чувство вины, холодное и вечное, как проклятие. Нет, не в том дело, что я испытывал укоры совести, мучился сознанием неправильности — по меркам некоего религиозного или иного кодекса — своего поступка; никакие этические контроверзы меня не донимали. И не стыд это был. То, что я чувствовал, было, в сущности, один невыразимый, голый метафизический ужас полной изоляции. Так же походя, как я пристукнул по затылку беднягу негра, человек, перерезавший ему горло, мог бы зарезать и меня, и капитан Заупокой так же равнодушно пробормочет надо мной отходную, и лениво расступится лоно вод, и море поглотит плоть мою и кость. Вокруг меня любой, кого ни возьми, может — как о том свидетельствует мой поступок — получить удар тупым предметом по затылку или ножом по горлу от уха до уха, а мир — ничего, как-нибудь переживет эту потерю. Если вот сейчас на нас рухнет грот-мачта, если корабль наш уйдет под воду и канет на дно морское, вселенная в своем вечном качении и качании даже ухом не поведет. Теперь я уже больше не чувствовал, что я, и ветер, и море, и крен корабля — одно. И звезды, давно угасшие, уже больше не были тлеющими ошметками моей когда-то сброшенной первой кожи. Я был просто вещью в большой перемешивающейся груде вещей; и каждая волна, каждая веревочная петля, каждый гвоздь — мои враги, мои хладнокровные убийцы. Я понял, каким безумством было считать, как я считал до сих пор, будто свобода взрастает на рабстве и тем оправдывает, утверждает его. «Рабство любви» — что за бессмысленная фраза! Бессилие чужака в стране врагов — вот это рабство, и это рабство — для каждого из нас. Августа ведь солгала, будто сама сочинила то стихотворение. Может быть, и про остальные свои стихи она лгала тоже. Естественно заключить, что и ее любовь ко мне — ложь, чувство, свойственное ее природе не более, чем нежность — Благочестивому Джону. Во всяком случае, я вовсе не был уверен, что могу пойти к ней, излить ей душу, рассказать о своем проступке, об этой жуткой муке бессмыслия, и знать, что получу от нее сестринский поцелуй всепрощения, который вернет к жизни убитый мною мир. «Виновен!» — думал я, сжимая ладонями голову. Всю жизнь был виновен, хотя понял эту простую истину только теперь. Виновен, скажем, в жестоком равнодушии к матери, ибо, будучи молодым, еще не отдавал себе отчета в том, как мало у нас надежды на бессмертие. Бессердечен, как манипулятор, лицемерен, как фокусник. И вдруг я вспомнил прелестную девочку Миранду Флинт, которая то морочила нас, хитрая, как льстивый змий в Эдеме, то вдруг, сброшенная в мальштрем жизни одним пронзительным воплем из глубины зала, застывала, глядя мне в лицо, и кричала, кричала, ужаснувшись пустоте. «Виновен!» — думал я. — И весь ничтожный род человеческий — виновен! Жалостно воздевая к небу гигантские иконы медведей, которых они забивают, и пшеницы, которую жнут, они молятся, подавленные ужасом и мукой: «Господи, грозный Правитель жизни и смерти…» (Да, вот он, секрет упрямой живучести древних предрассудков — любовь, сэр! Любовь человека, и медведя, и колышимой ветром нивы; любовь и горе убийцы!)
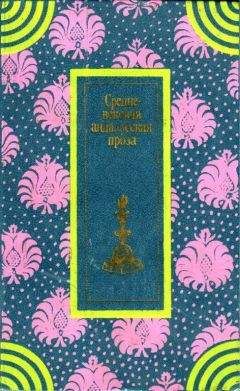
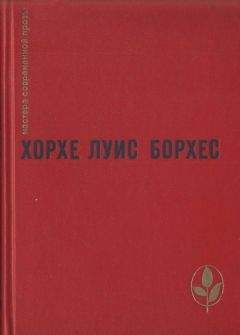
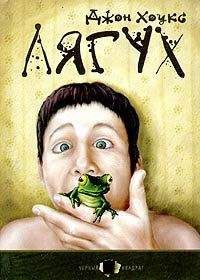
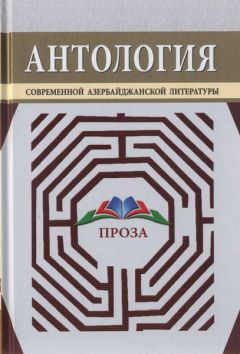
![Джон Уиндем - Паутина [ Авт. сборник]](/uploads/posts/books/60251/60251.jpg)