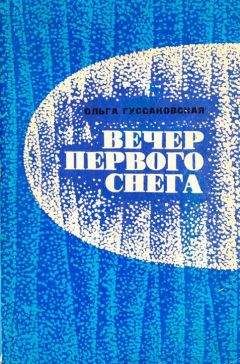Франсуаза Малле-Жорис - Дикки-Король
— Но кто говорит о генеральной репетиции, малыш? Дикки чувствует себя лучше, он просто решил дать небольшой частный концерт, чтобы закончить сезон, поблагодарить приютивших его людей и фанатов, которые ждали его выздоровления, вот и все дела!
— Нет, не все! Ведь я знаю, что Теренс Флэнниган находится сейчас у Николь и Лоретты! Ты скрыл это от меня!
— Теренс поехал туда, чтобы попробовать отработать новый жанр текстов, птенчик мой, текстов! Ничего особенного…
— Теренс написал музыку песни «Плевать на мое сердце»!
— Он ее подписал, крошка, а это совсем другое дело, как тебе известно. Теренс никогда не мог написать ни одной ноты!
— На всякий случай предупреждаю тебя: если я узнаю, что меня дублируют, я запрещу распространение всех записанных на пластинках песен!
— Не запретишь, птенчик мой!
— Я забрал все ленты со студии «Дам», теперь они есть только у меня.
— Это же открытый шантаж!
— Конечно.
— Подлец ты! Я же говорю тебе…
Алекс орал на Жана-Лу; его без конца вызывали к телефону, потому что в замке не хватало динамиков, звукооператор сорвал пломбы, Боб не будет играть в таких условиях; короче, Алекс был на седьмом небе.
— Эй, Жан-Лу! Когда зайдешь в замок, не удивляйся, что твой дядюшка не всем доволен.
— Я в этом не сомневаюсь. Вы же готовите для него светомузыкальный спектакль.
— Это доставит ему не слишком много неприятных минут! Но если ты хоть немного способен повлиять на него, постарайся, чтобы он опять не спустил на нас собак. Я не уверен, что Дикки дважды удастся его фокус.
— Какой фокус?
Пришлось рассказать Жану-Лу о «чуде». Он ничего не знал. Его так омрачила история с Флэнниганом, что он целую неделю не заглядывал в «Матадор».
— Все в этом доме идет кувырком, — с грустью сказал Никола.
— Да, вижу. Но разве это так важно?
Полина пыталась его приободрить.
— Может, и неважно. Наверно, даже к лучшему. Но нам очень тяжело.
— Почему?
— Тебе этого не понять. Среди нас есть люди, которые живут здесь уже два, даже три года, пытаясь найти свою линию в жизни, выработать самодисциплину… и вдруг все летит вверх тормашками… и даже нельзя сказать, что это плохо. Просто это тяжело.
— Но как только пройдет вечер, мы уедем, — одобряюще сказала Полина. — Знаешь, мы, фанаты, не то что вы, мы не каждый день вместе с Дикки.
— Я уверен, — с понимающим видом продолжал Никола, — что это вы принесли к нам смуту… надолго. Впрочем, она нас обогащает. Быть может, вы олицетворяете ту мысль Отца, что люди никогда до конца не уподобляются никому, что все дается свыше, что ничего заслужить нельзя…
Личико Полины выражало искреннее желание понять Никола.
— Ты хочешь сказать, что не стоит труда к чему-либо стремиться?
— Нет, по-моему все-таки необходимо к чему-то стремиться…
— Но ведь это ни к чему не ведет?
Чистый задумчивый лоб Полины сморщился от напряжения. И какое имеет значение это желание понять у дочки владельца гаража, влюбленной в слащавого певца и никогда не прочитавшей в жизни ничего серьезного? Может быть, оно ничего не значит, а может быть, значит все. И кто такие фанаты, которых он считал смешными (да, считал) с их пикниками, цветастыми платьями, транзисторами, восторгами в точно назначенные часы? Может, они ничего не значат, а может, значат все? Остается ли прекрасной благодать, если обращена на ничтожную цель? И существуют ли ничтожные цели? Или же фанаты без суетной заботы о культуре и внешности открыты той чистоте, что недоступна ему?
Вздохнув, он посчитал ненужным говорить об этом с Полиной.
— Если в воскресенье Дикки объявит, что окончательно пришел к «Детям счастья», ты что станешь делать?
— Не знаю, — ответила Полина. — Я вовсе не против, но…
— Но?..
— Даже Дикки, — с грустью сказала Полина (и что-то трогательное промелькнуло на ее внезапно повзрослевшем личике), — даже Дикки не скажет, что мне делать…
Никола с каким-то благоговением промолчал.
Жана-Лу, хотя он и был вне себя от злости, все-таки поразило, как нищенски выглядела комната. Граф всегда принимал его в малом салоне, заполненном семейными реликвиями, чья ветхость могла показаться свидетельством любви к прошлому.
Однако комната, куда не заглядывало солнце, жалкие и выцветшие обои, стоящая в углу, вдалеке от окна, кровать, помятые подушки — все без прикрас говорило о нужде, одиночестве; Жан-Лу почти растрогался.
Точно так же его растрогал бы любой другой старик, небритый, всеми покинутый и вынужденный в час обеда тащиться в узенькую, забитую грязной посудой, импровизированную кухоньку, чтобы съесть там кусок черствого хлеба с двумя сардинками в масле. Но его дядя, граф де Сен-Нон, таким стариком не был. Их связывало слишком много воспоминаний, вымогательств, взаимных обязательств, слишком многое разделяло и соединяло их. Впрочем, граф не казался тяжело больным.
— Ты плохо себя чувствуешь? Устал?
— Да, это верно, — ответил граф. — Устал.
Он ничуть не стремился сделать вид, будто визит Жана-Лу доставляет ему удовольствие. Весь мир графа рухнул после вторжения Тома; он был убежден, что та малопочтенная компания, с которой он заключил сделку, всегда будет оставаться в стороне, вдали от его подлинной жизни — поддержания замка, терпеливого восстановления семейного владения, — жизни такой аскетической и столь пронизанной одной мыслью, что граф полюбил переписываться с бесчисленными родственниками: с ними он почти никогда не встречался, но, испытывая наслаждение коллекционера, тщательно фиксировал, каково их положение в обществе. И в это северное крыло, куда никто не проникал, в его убежище, в его оазис ворвалась эта скотина, набросилась на него, обошлась с ним, как с их сообщником! Больнее полученных ударов графа потрясло это злокозненное нарушение всех приличий. Разве прилично говорить о подобных вещах? Да, он сдавал свои необъятные подвалы для того, чтобы хранить таинственные тюки, но разве он хотя бы однажды подумал об их содержимом? Да, впрочем, как можно об этом думать, смотря на мсье Хольманна, такого вежливого и попивающего свой китайский чай, сидя под небольшим полотном Ренуара? Нет, Хольманн не имел никакого права присылать эту скотину, раскрывать перед графом всю грязную изнанку сделки, единственным достоинством которой было то, что она совершена в тайне. И неожиданное вторжение этой мелкой сошки, такой пошлой и грубой, — делало еще более тягостными само присутствие и визит Жана-Лу, одетого словно богатый клошар. Кроме того, графа также шокировали роскошная шелковая рубашка цвета слоновой кости с закатанными руками, повязанный вокруг шеи грязный платок от Сен-Лорана, под ним виднелась золотая цепочка, равно как и потертые, совсем заношенные джинсы, которые кое-где поползли по швам. А то, как вяло и развязно Жан-Лу опустился в просиженное кресло у его изголовья, показалось графу настоящим вызовом. Он весь покрылся потом: от бессильной ярости, от того, что был вынужден притворяться.
— Как поживает Алиетта? — спросил он тем не менее слабым голосом.
— Ма, как обычно, на Балеарах, запасается на зиму, — гнусаво ответил Жан-Лу. — Напрасно я твержу ей, что теперь это немодно… Но я приехал не за тем, чтобы обсуждать маман.
— Ты, я полагаю, приехал участвовать в этой оргии. В сем «художественном мероприятии»… Подумать только, ведь здесь мы принимали Жермену Любэн! Перед войной, естественно…
— И на Жермену Любэн ты тоже спустил псов? — перебил Жан-Лу.
Граф промолчал, он задыхался. Значит, все вокруг нападают на него потому, что он спустил собак на этого паяца! Это уж слишком! Графа душила несправедливость.
— Ты, наверно, совсем спятил, если спускаешь собак на моего ГП?
— Главного патрона? — пробормотал граф, делая нечеловеческое усилие, чтобы улыбнуться.
— Главного питателя. Пойми, мы с тобой можем посмеяться над этим. Но я впервые вижу, что ты откалываешь такую забавную штуку. Однако я очень бы хотел, чтобы меня не впутывали в нее. Я приезжаю, и все набрасываются на меня: «Твой дядюшка отключил воду, твой дядюшка спустил собак, твой дядюшка никому житья не дает». Так вот, слушай: или ты будешь считать себя хозяином гостиницы и уважать своих клиентов, или будешь вести себя как хозяин замка и уважать своих гостей.
— У меня нервы не выдержали, — почти униженно оправдывался граф. — Ты знаешь, мой маленький Жан-Лу, для меня уже была тяжким ударом необходимость принять эту группу… Если говорить откровенно, почти секту… Мне гораздо больше пришлись бы по душе деяния святого Фрациска, но, увы…
— Вот именно, увы! Они не не приносят денег. Ты зря нос воротишь…
— Ты несправедлив, Жан-Лу!
Жан-Лу был несправедлив вдвойне. Потому, что на эти жертвы граф шел ради него, наследника. И потому, что именно по совету Хольманна он принял эту шайку — идеальная находка для полиции в случае, если бы, несмотря на тайком установленные бронированные двери, обнаружилось, что же хранится в подвалах.