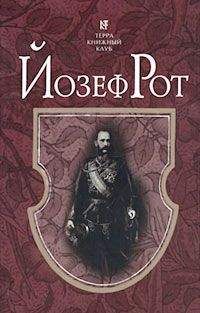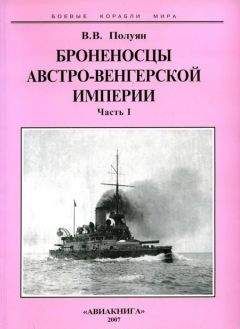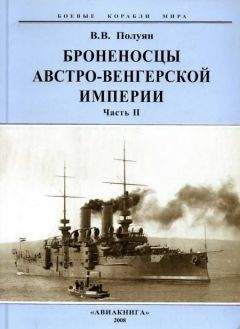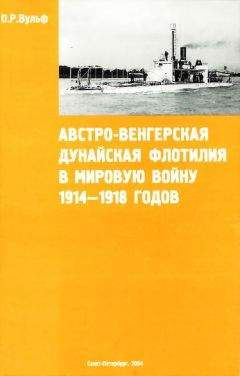Петер Ярош - Тысячелетняя пчела
— На войне дерутся такие, как мы с тобой, — не сдавался Ян Аноста, — или как твои сыновья… Не позволишь им взять в руки оружие — войны и не будет… И сам его ни за что не возьмешь…
— Ох ты и ухо-парень, — подивился Юрай Гребен. — Их же укокошат! Откажешься от военной службы — тебя свои же пристрелят, то-то и оно!
— Если все поступят так, — стоял на своем Ян Аноста, — никого не пристрелят.
— Ладно, ребята, войны-то еще нету! — урезонивал их кузнец Ондро Митрон. — Да и будет ли, кто знает?! А если и будет, так, скорей всего, просто такая маленькая. Бабахнем раза два-три из пушки, поблестим саблями, чтобы постращать серба, и все дела!
— Неохота мне, право слово, воевать, — отозвался брат кузнеца — Юло Митрон.
— А кому охота? — спросил Пиханда.
— Я на всякий случай засолю корову в кадушке, — сказал Петер Жуфанко. — А то и две!
— И сам в ярмо впряжешься? — ухмыльнулся Мельхиор Вицен. — Нам, каменщикам, война, пожалуй, на руку. Порушат дома, на двадцать лет работенки хватит…
— Лишь бы какая пуля и тебя не порушила! — сказал Ян Аноста.
— Сербия от нас — не ближний свет, пули сюда не долетят.
— Я вот что скажу… — вступил снова Ян Древак, но Само Пиханда уже не слушал его. Он вышел из кузни так же незаметно, как и проскользнул в нее. Уже вечерело, а Само вдруг стало невообразимо жарко. Он весь покрылся потом, тело будто горело. Он бегом прошмыгнул меж домов за околицу и, спустившись к речке, разделся. Вошел в студеную воду сперва по колени, потом лег на спину, перевернулся, намочил голову, зачерпывая воду ладонями, обливал лицо, набирал ее ртом и тут же прыскал далеко перед собой. Продрогнув, вылез из воды. Оделся и растянулся в сухой, неросной траве. Посмотрел вверх — на звезды и задержал взгляд на месяце.
— Что же будет, братец, правду скажи?! — обратился он к месяцу. — Или и тебя придется пристрелить?!
Само улыбнулся, вообразив, как расстрелянный месяц сперва изойдет кровью, а потом закувыркается вниз с неба и упадет в какую-нибудь липтовскую долину… Затрубили вдруг трубы. Забряцало оружие, зацокали лошадиные копыта. Ноги уперлись в стремена, и острия сабель рассекли тишину. Сербы крикнули: «Месяц — это нашей мести первое победное ядро!» Само пронзило видение того, как месяц давит липтовчан, и он в страхе открыл глаза.
Но месяц спокойно скользил по небу и то и дело нырял в редкие облака, словно натягивая праздничную рукавицу. И молчал. Само неотрывно следил за ним. Безмолвие вселенной успокаивало его. Дикие и грозные видения, только что явившиеся ему, внезапно рассеялись. Он вдруг резко передернулся и непроизвольно сжал ладонь, на которую из травы что-то впрыгнуло… Встал и заглянул в кулак, в котором раздувалась холодная осклизлая жаба. Он раскрыл ладонь, и жаба шлепнулась в траву. Само Пиханда понюхал ладонь, сморщился от отвращения и шагнул к воде…
3
И пришла война!
Только мгновенье прикидывалась она незаметной. Пала на людей легонько, почти как манна небесная. Возможно, поэтому ее благословил и священник Доманец пресловутой фразой: «Солдат стреляет, господь бог ядра подает!»
— А ну как он и ваши ядра оторвет? — спросил его Само Пиханда.
— Боже упаси! — ужаснулся священник Доманец.
— Ведь они вам уже без надобности…
— Сын мой злосердый, — вскипел священник, — волосы на теле тебе тоже не надобны, однако ж они есть у тебя! Воля божия неисповедима…
Священник осенил себя крестным знамением и хотел было перекрестить Само, но тот, сплюнув, отвернулся.
То была не манна небесная, ниспосланная на людей. Вместо пищи на зубах заскрипел свинец.
4
Работница ружомберкской бумажной фабрики Мария Радкова крепко обняла и прижала к себе часовщика Петера.
— Что же будет с нами? — простонала она. — Тебе нельзя идти в армию, ни за что!
— Тогда тебе придется хорошенько меня спрятать, — сказал Петер и улыбнулся.
— И спрячу! Под кровать, в погреб, на чердак!
— Везде найдут… Доказчиков и шпиков столько, что и мыши у них на учете!
— Господи, была б у меня волшебная палочка, обратила бы я тебя в невидимку или в Янко Грашко…
— Была бы она, мы б войну заколдовали!
— Дорогой!
— Дорогая!
— Я люблю тебя!
— Я люблю тебя!
Обнявшись, они упали на кровать. Вздохи, которыми в них прорастала любовь, заглушали страх. Тела ощущали друг друга каждой клеточкой. Они плакали от счастья, смеялись от счастья. Они любили друг друга, забывая о себе, о своих руках, ногах, о губах. После долгих мгновений любви, покорившись истоме, они как бы едва отыскивали и узнавали свое собственное существо, хотя и знали его назубок. И слившись в объятии, долго лежали в величавом покое. Когда позже, среди ночи, Петер Пиханда зажег свечку и стал одеваться, Мария со всхлипом кинулась к нему снова.
— Нет сил терять тебя, — шептала она ему в лицо голосом, полным страха и тревоги.
— Я уж постараюсь, моя хорошая! — обещал Петер спокойно, обнял ее и добавил — Если успеем, в ближайшие дни поженимся!
Разгоряченный, он выбежал во влажную летнюю ночь. Оглянулся на маленький окраинный домик, в котором жила Мария с матерью. Вдруг удивленно остановился, прислушался. До него доносился какой-то гул, потом он уловил и пение, говор, крики. Петер Пиханда снова двинулся, с каждым шагом невольно прибавляя ходу. Вскоре он явственно стал различать выкрики, пение и громкие речи. А когда, еле переводя дыхание, выбежал на главную городскую улицу, то ошеломленно попятился и замер. Перед его глазами возникло необычайное зрелище: близилось людское шествие. Торговцы, адвокаты, купцы, студенты и профессора, богатые ремесленники и государственные чиновники держали высоко над головами горящие факелы, а их жены и дочери несли лампионы на длинных тонких палочках. Все пели боевую, патриотическую венгерскую песню, гомонили, визжали, свистели на пальцах… Допев до конца песню, принялись дружно выкрикивать и скандировать: «Да здравствует война! Да здравствует война! Да здравствует война!» В окрестных домах стали постепенно зажигаться окна, какие-то любопытные восторженно махали опьяненному воинственным духом шествию и, вторя ему, выкрикивали: «Да здравствует война!» Петер Пиханда не знал, когда и откуда очутилась в его руках палка. Злость, исподволь накипавшая в нем, вдруг сотрясла его. С криком, диким и пронзительным криком: «Скоты, скоты, скоты!» — Петер бросился вперед и стал палкой сбивать на землю пылающие факелы и зажженные разноцветные лампионы. Словно помешавшись в рассудке, он исступленно выкрикивал: «Скоты! Скоты! Скоты!» Шествие расступилось, женщины и девушки визжали, мужчины, увертываясь от него, отскакивали. Вдруг возле Петера вырос его товарищ — часовщик Вавро Масный и повис на руке, сжимавшей палку.
— Ты что тут куролесишь? — крикнул Вавро ему в самое лицо. — Брось, беги, вот-вот здесь будут жандармы.
— Отпусти руку! — взревел Петер.
— Не пущу!
— Пусти! — Петер рывком освободил руку. — Лучше помоги разогнать эту свору.
— Болван, бежим, пока время есть! — Вавро Масный затравленно огляделся по сторонам.
Но Петер Пиханда снова замахнулся на факелы и лампионы, которые, озорно дразня пламенем, сомкнулись вокруг них. Снова упало наземь несколько факелов, снова разлетелось брызгами несколько лампионов. Но продолжалось это недолго. Петера и Вавро настигли жандармы. Они грубо схватили их — и повели.
— За решетку их! — орали из толпы.
— Это русские шпионы!
— Панслависты, в кутузку их!
— Оскопить их!
Петер Пиханда и Вавро Масный, увлекаемые жандармами, исчезли в темных улочках. Толпа разрасталась, она опять выстроилась в ряды и двинулась. И уже не выкрикивала, а ревела — безбоязненно и дерзко: «Да здравствует война! Да здравствует война! Да здравствует война!..»
5
И война здравствовала!
Европейские националисты всех мастей решили потешить старый континент веселой военной баталией. Охотники до войны, правители, министры, представители крупного и мелкого капитала считали своим долгом и честью славить войну и сеять ее смертоносное благо по всему свету. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, 1 августа Германия — России, а два дня спустя — Франции. 4 августа немцы вступили в Бельгию, и тогда вмешалась Великобритания. 6 августа Австро-Венгрия объявила войну России, а через неделю Англия и Франция — Австро-Венгрии. 23 августа Япония объявила войну Германии. В ноябре на стороне австрийско-германского блока вступила в войну Турция и ровно через год — Болгария. Италия, исконный член «Тройственного союза», примкнула в 1915 году к Антанте. На стороне Антанты, одна за другой, выступили Греция, Португалия, Румыния, а с 1917 года и США. Великолепный, можно сказать, величественный спор за новый христианский или нехристианский раздел мира начался с благословения церкви и политических партий. Европейские социал-демократические партии, девственно зардевшись, застыдившись, как обесчещенная барышня, и покрывшись багровыми пятнами, точно стареющая женщина, согласились с решением и целями мирового капитала и поддержали войну. Лишь такие слепцы, как Ян Аноста и Биро Толький, словно ничего не уразумев, в знак протеста вышли из социал-демократической партии. После столь неблаговидного решения, в коем товарищи не преминули тут же упрекнуть их, они безобразно налакались и позволили себе, эдакие скоты и невежи, вместе с прочей им подобной и ослепленной сволочью, с отцами, матерями, женами и детьми солдат, гнусно ругать войну, оскорблять ее и проклинать всеми клятвами, за что проповедник слова господня Крептух отчитал их принародно с амвона. Однако его мощного гласа не испугался некий, тогда еще мало известный В. И. Ульянов и в сентябре 1915 года собрал на конференции в швейцарском Циммервальде последовательных социалистов и интернационалистов — противников войны. А вот кому война с самого начала пришлась не по душе — так это солдатам на фронте. У них, у ворчунов, она прямо-таки застряла в зубах — а все потому, что в их телах застрял свинец. Даже сапожник Скленка и тот ругал войну. Пришел он как-то к молодому ученику Скове и спрашивает: