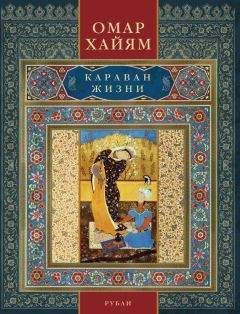Пол Теру - Моя другая жизнь
Увидев, что я опять взялся за бутылку, она отвела в сторону руку с бокалом.
— Не надо. Если мы сейчас больше не будем пить, у нас останется немножко на потом.
Я не стал говорить, что шампанское скоро выдохнется. Меня утешило и ободрило, что она произнесла это «на потом».
— Кроме того, я знаю, когда следует остановиться, — сказала Ютта и рассмеялась, как смеялась всегда, с иронией цитируя какой-нибудь из смертельно надоевших нам лозунгов своей матери. — Сделаем паузу.
Она достала из ящика узкий нож и воткнула его в бутылку. Лезвие чуть коснулось жидкости.
— Теперь оно сохранит шипучесть.
Я помог ей надеть плащ, еще не высохший после прогулки с вокзала, и почувствовал острую боль, заметив залоснившуюся накладку на воротнике. Строгая одежда, которую она надевала на работу, ее стоицизм — как-то все это очень серьезно. Но ничто не могло огорчить меня больше, чем ее бережливость, в которой было столько мужества и ни малейшей нужды.
В общем, я обнял ее, чтобы утешиться, и она поначалу не стала сопротивляться, но потом напряглась, застыла, едва не оттолкнула меня прочь.
— Хватит, прекрати.
Она первой вышла в холл и, проходя мимо кресла у маленького столика с телефоном, указала на стопку конвертов.
— Что это?
— Рождественские открытки.
— Ах да, конечно. — Голос ее упал.
В дверях я попытался поцеловать Ютту в щеку, но она отшатнулась и отвернула голову, словно в поцелуе моем было нечто лицемерное, если не просто предательское. Я уже решил, что она снова собирается расплакаться, но вместо этого она лишь сердито фыркнула и хлопнула руками в перчатках.
— Ненавижу январь, — сказала она.
Снега не было, только холодный дождь прошел над городом, придав всему вокруг жирный блеск крема для обуви, да в разрывах черных клочковатых туч, мчавшихся по небу, мерцали звезды. Ветер беспощадно трепал голые ветви платанов на краю парка, и я пожалел, что выбрал холод, и непроглядную тьму, и сырые улицы, и предощущение мороза в воздухе.
— В чем дело? — спросила Ютта. Она всегда знала, когда меня что-то беспокоило.
— Да вот подумал: скверная погода в городе непременно наводит на воспоминания.
— И меня тоже. Стоит мне подумать о Сингапуре, и на ум сразу приходит переполненный водосток на Бакит Тимах-роуд или то, как на солнце выгорели все наши вещи.
— Мы были так бедны, — сказал я.
— Какое это имело значение?
— Мне это было ненавистно. Езда в автобусе. Вечная экономия. Постоянно чувствуешь себя жертвой.
— Боже мой, до чего жалостная картина!
Она сжала мое плечо, и я засмеялся, и мы взялись за руки и двинулись через парк, стараясь не ступать в грязные лужи, проходя под фонарями на высоких столбах, мимо облетевших кустов боярышника и скамьи из деревянных реек, сломанной хулиганами. Ресторан «Оранжери» находился в южной части парка и этим субботним январским вечером был полупуст. Пар осел на окнах с зеркальными стеклами, тянуло сквозняком, в воздухе было холодно — впрочем, мне казалось, что зимой в Лондоне так бывает во всех больших помещениях.
— Как ты полагаешь, будет правильно, если мы сядем вон туда, поближе к радиатору?
— Абсолютно.
— Рад видеть вас снова, сэр, — приветствовал меня официант, сопровождая нас к столику, на который я ему указал.
Он оставил нас наедине с меню и картой вин, и после того, как он ушел, я сказал:
— Знаешь, когда я работал в ресторане, нас учили не говорить именно этого. «Делайте вид, что не узнаете посетителя. Не называйте его по имени, если он с женщиной. Может, ей он сообщил, что его зовут Смит, а вы только что назвали его Джонсоном. Может, сегодня вечером он пришел с женой и сказал ей, что прежде тут отродясь не бывал».
— Это паранойя.
— Это деликатность. И она спасла немало браков.
Ютта выглядела удрученной. Помолчав, она спросила резким тоном:
— Ты здесь был с кем-нибудь?
— Нет.
— Можешь говорить правду, Андреас. Теперь-то какая разница?
— Это правда.
Так оно и было, но меня встревожило, что для нее это больше не имеет значения. Незнакомый человек решил бы, что она изучает карту вин. Но я-то знал: она ничего не изучает и даже не смотрит на эту карту, а просто размышляет о чем-то, внезапно погрузившись в уныние.
— Не выношу, когда ты называешь меня Андреасом. Это звучит даже враждебно.
— Опять паранойя, — усмехнулась она.
За спиной возник официант, и я порадовался, что не успел сказать ничего лишнего. Я велел себе: «Не буду ни о чем вспоминать, особенно об этом». И вдруг понял: пока я сокрушался, что мы сидим здесь, за этим дурацким обедом, она жалела о том же самом. Про то и были ее мысли, когда она делала вид, будто выбирает вино.
— Принести что-нибудь выпить? — осведомился официант.
— Бутылку шампанского, — ответил я. — «Вдова Клико» будет в самый раз. Двадцать второй номер.
— Ты уверен, что нужна целая бутылка? У них есть маленькие бутылочки «Лоран-Перрье».
— Уверен, — сказал я, но не ей, а официанту, и тот сразу же поспешил прочь, что-то бормоча себе под нос с показной услужливостью, которая, впрочем, выглядела непритворной.
— Тебе придется выпить львиную долю.
— Поскольку единственный лев здесь я, то, понятное дело, ничего другого мне не остается.
Официант принес сначала ведерко, потом бутылку, привычно разыграл маленький спектакль, заворачивая бутылку в салфетку и с помощью больших пальцев вытаскивая пробку. Весь этот ритуал был вполне бессмысленным. За ним последовали разлив на пробу, сама проба и мой непреложный вывод: «Отлично!»
— Торжественная дата? — поинтересовался официант, наполняя бокалы.
— Да, — ответил я.
— Нет, — ответила Ютта.
Сконфуженно улыбнувшись, официант удалился, не взяв заказ, но минутой позже вернулся с извинениями и перечислил на память все лучшие блюда, имевшиеся в заведении нынешним вечером.
— Откуда тебе известно, что, если засунуть нож в бутылку с шампанским, вино останется шипучим?
— Во что вонзишь нож, то и будет шипеть, — сказала Ютта. — Тебе-то следовало бы знать об этом лучше всех.
Я спросил:
— Как насчет bouillabaisse[88]? Одну порцию на двоих?
В меню было помечено: «На две персоны».
— Вот уж чего мне совсем не хочется, — с укоризной сказала Ютта, как будто я посягнул на ее независимость.
— Мне луковый суп и куропатку, — попросил я.
— А я возьму pâté[89] с лососем и индейку по-рыцарски.
— Тебе в жизни не хватало рыцаря.
На мгновение она улыбнулась, но тут же посерьезнела.
— Так что же мы все-таки отмечаем?
Она казалась рассерженной, и я уже начал раскаиваться, что дома заставил ее выпить шампанского: боялся, как бы она не заплакала или даже не закричала. Дабы не будить в ней зверя, в ответ я только неопределенно покачал головой. Что бы я сейчас ни произнес, все могло быть истолковано как провокация.
— Это были не рождественские открытки, — сказала она. — Я знаю, что это было. Извещения о перемене адреса. Я права, не так ли?
— Не надо, пожалуйста, — сказал я умоляюще, желая успокоить ее. И добавил: — Давай поговорим о чем-нибудь другом.
— Не о чем больше говорить. Мне омерзительны эти твои открытки.
— Дорогая, в переездах нет ничего необычного.
— Не называй меня «дорогая».
— Хорошо. Но при условии, что ты не будешь называть меня «Андреас».
Я оглядел ресторан, пытаясь понять, слышит ли нас кто-нибудь, попутно прикидывая, что может произойти, а точнее, кто будет свидетелем, если, как я опасался, Ютта вскочит и заорет на меня истошным голосом. Пряча глаза, съежившись на стуле, стараясь казаться маленьким и безобидным, даже ничтожным, быть может и жалким, я сидел затаив дыхание. Потом, продолжая молчать, сделал пару глотков.
Она сказала:
— Не бойся, я не собираюсь впадать в бешенство.
Она абсолютно точно знала, о чем я думаю.
Пришел официант, принес первое блюдо. По-прежнему стараясь не дышать, я дал ему расставить тарелки и после его исчезновения произнес со всей беззаботностью, какую смог изобразить:
— Как прошел рабочий день?
— Бывают минуты, когда я чувствую: реально в мире одно лишь зло, истинна только боль. — Сказала и улыбнулась какой-то затравленной, полубезумной улыбкой.
— Боже мой! — воскликнул я. — Никогда не слышал ничего более грустного. Ютта, неужели ты так несчастна?
— Нет. Это цитата. Из Монктона Милнса — лорда Хоуктона[90]. Он был покровителем сэра Ричарда Бёртона и, бедный старик, временами впадал в тяжелую депрессию. Я как раз сегодня монтировала передачу о нем.
Опасность миновала, хотя цитата застряла у меня в мозгу как нечто неописуемо мрачное. Ютта оживленно продолжала: