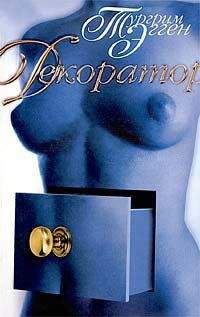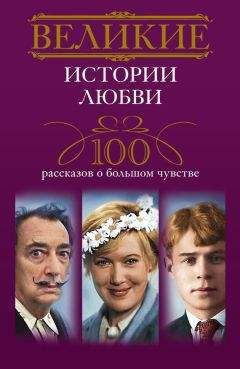Тургрим Эгген - Hermanas
Фелипе не умел ни читать, ни писать: само по себе уникальное достижение для Кубы. Это было мне на руку: он любил слушать рассказы, и когда у меня была какая-нибудь подходящая книга, я читал ему вслух. Я помогал ему писать письма матери, по-моему единственной женщине, которую он любил. Она жила в Мансанильо в нескольких часах езды к югу и регулярно навещала его. Она привозила целые корзины разной снеди — свежие фрукты, водка, колбаса и консервы — и курево. Тюремщики брали себе немного, либо потому, что у Фелипе были привилегии, либо потому, что он был смертельно опасным. Случалось, Фелипе делился со мной этим изобилием. Трогательная черта характера моего сокамерника.
Я обратил внимание на то, что, когда мы находились за пределами камеры вместе с другими заключенными и тюремщиками, он обходился со мной хуже обычного. Фелипе общался со сливками арестантского общества блока D, то есть нашего барака. Все они были убийцами. Все носили с собой ножи, которые самые рукастые арестанты делали из железного лома и кусков стали и продавали за сигареты. Если товарищам Фелипе приходило в голову немного меня потерроризировать, он держался на вторых ролях. Если же поблизости находились тюремщики, то он активно меня мучил. До меня дошло, что Фелипе пользовался привилегиями за «особое отношение» к политзаключенному. Мне пришлось просто проглотить это, и я никогда не разговаривал с ним на эту тему.
Жизнь в «Агуас-Кларас» начиналась с восходом солнца, тогда приносили завтрак: сладкую воду с черствым хлебом. После завтрака «обычных» заключенных отправляли на работу. Тюрьма «Агуас-Кларас» располагалась в плодородной местности, и за колючей проволокой мы выращивали кукурузу, лук, капусту, салат, ананасы и другие фрукты. Узники, работавшие на земле, успевали отведать ее плодов, но выращенное никогда не доходило до тюремной столовой.
В отличие от вооруженных убийц, я был «склонен к побегу» и поэтому не мог работать на улице. За все время пребывания в тюрьме едва ли один луч солнца коснулся моей кожи. Меня могли послать мыть полы в бараке, то есть возить туда-сюда грязной тряпкой, смоченной в вонючей воде, чтобы придать полам более пристойный вид. Несколько раз меня отправляли работать на кухню, что считается заманчивым, потому что там можно разжиться объедками. Но чаще всего я сидел запертым в камере, где днем становилось невыносимо жарко и было так сыро, что однажды, когда я долго не брился, моя щетина приобрела зеленоватый оттенок, покрывшись плесенью. С равными промежутками времени — причем без всяких провокаций с моей стороны — мне приходилось проводить пару ночей в изоляторе, узкой шахте, где спать можно было только свернувшись вокруг параши. Двое суток там, и обычная камера уже казалась номером люкс, а лопатный убийца Фелипе — Сократом.
Побыть в полном одиночестве было невозможно. Вместе с нами жили комары, мухи, муравьи, скорпионы, ящерицы и тараканы. Один из заключенных блока D считал убитых им тараканов. Он утверждал, что за три месяца ликвидировал 5678 насекомых. В изоляторе компанию заключенным составляли крысы.
Ужин раздавали на закате, и состоял он обычно из пары картофелин и миски супа цвета мыльного раствора. Один-единственный раз я ел вареное яйцо. Нередко обед из риса и бобов приносили вместе с ужином. В таких случаях между двумя приемами пищи проходило двенадцать часов. Еда обычно была затхлой или недоброкачественной, а иногда ее делали неаппетитной или несъедобной намеренно: в рис могли добавить гнилые рыбные потроха или сгустки старой вонючей свиной крови. Еда — это способ наказания. Но самым ужасным была питьевая вода: коричневатая и опасная для здоровья. Через несколько месяцев, проведенных в тюрьме, я заболел амебной дизентерией, и уверен, что заразился ею через питьевую воду. Что такое амебная дизентерия? Вспомните свой самый ужасный понос и умножьте ощущения на пять: это когда из тебя льется, а кишки выворачиваются наизнанку. Вонь стоит неописуемая. Если в течение нескольких дней после начала болезни в условиях блока D не начать принимать антибиотики, можно умереть от обезвоживания и истощения. Я похудел килограммов на пять, но провел несколько дней в больничном отделении, где еда и вентиляция были лучше.
В «Агуас-Кларас» многие заключенные болели туберкулезом, цингой и бери-бери. В первую зиму моего пребывания там проходила идеологическая кампания против чахотки, которую, как мы узнали, «распыляли» с неба самолеты-шпионы ЦРУ.
Многие пытались покончить с собой или калечили себя так, чтобы их направили в больницу. Они резали себя, глотали стальную проволоку, бритвенные лезвия или столовые приборы, жгли себя. Однажды я видел, как заключенный нагрел полиэтиленовые пакеты до превращения в жидкую кипящую массу, а потом засунул в нее руки. Они были полностью изувечены. Потом мы узнали, что обе руки ему пришлось ампутировать.
В начале я часто задумывался о самоубийстве. Но в основном не из-за условий содержания в тюрьме, а из-за того, что потерял Миранду. Я рассуждал так: если бы я был уверен в ее любви, я бы вынес восемь лет тюрьмы или больше. Без нее все теряло смысл. Что я буду делать там, на свободе? Потом я начал понимать, как же долго тянется одна неделя, один месяц, один год… боль израненной души стала отступать на второй план, потому что борьба за выживание изо дня в день приобретала все более важное значение. Я уже не так часто думал о ее измене и о последней ночи, а о Пабло не думал вообще. Если я не ошибался, он сам должен был в то время сидеть на допросе. Конечно, бывали ночи, когда я лежал на своем колючем соломенном матрасе и чесался, представляя себе Миранду в объятиях другого мужчины. Я видел на ней новые туфли. Но мечта о том, чтобы вернуться и зажить нормальной жизнью вместе с ней и нашей дочерью, придавала мне сил. Я жил ею. Я фантазировал, что Миранда всех подняла на уши, чтобы выяснить, где я нахожусь, писала письмо за письмом, которые просто до меня не доходили, связалась с «Международной амнистией» или другими организациями, чтобы помочь мне. Вот в эту минуту она встречается с кем-то, а сейчас опускает в ящик важное письмо, а теперь стоит и выкрикивает обвинения напротив дверей Министерства внутренних дел, а сейчас у нее берет интервью иностранный журналист. Они не могли заставить людей забыть меня.
Наконец в тюрьме у меня появился друг. Он тоже был одинок, отчасти потому что плохо говорил по-испански. Запас слов у него был большой, но произношение — ужасным. Он был единственным иностранцем в «Агуас-Кларас», а здесь, как и на свободе, против них существовало предубеждение: контакты с иностранцами ненормальны и наказуемы. Мы сближались осторожно, начав с улыбок и коротких кивков. Нам, контрреволюционерам, всегда надо отдавать себе отчет в том, с кем мы разговариваем. Многие заключенные работали на Управление государственной безопасности. В то время мы знали почти всех из них.
Мой новый друг был черным и носил удивительное имя: Мутула Ойеволе. Сначала его звали Лерой Вильямс, он родился и вырос в нью-йоркском Гарлеме. Он был редкой птицей — политическим беженцем на Кубе. По крайней мере, он называл себя политическим беженцем — в США его разыскивали за ограбление банка и соучастие в убийстве. Мутуле было чуть больше сорока лет, и он уже успел совершить в этом мире много нетривиального. В шестидесятые годы он вступил в «Черные пантеры», военизированную ветвь американской правозащитной организации, которая особенно усилилась после убийств Малькольма Икса и Мартина Лютера Кинга. Я кое-что знал об этой организации, Куба восторгалась ею. Теперь она больше не существовала. Партия «Черных пантер» была маоистской, и примером для нее служил Че Гевара.
Мутула не впервые оказался за решеткой. Он всегда жил на грани закона, и поэтому, когда году в 1970-м для финансирования партии надо было ограбить пару банков, Мутула почувствовал, что это его дело. Все пошло не так, как было задумано, и один полицейский был убит. С ФБР на хвосте Мутуле удалось перебраться через границу с Мексикой, где он сел в самолет, следовавший на Кубу, и по прибытии попросил политического убежища. Он был не один такой, в какое-то время на острове скопилось много бывших черных активистов из США. Фидель принимал их с распростертыми объятиями.
И что же с ним случилось? — поинтересовался я. Куба оказалась не тем раем, о котором он мечтал?
В какой-то степени, сказал Мутула. Но сейчас проблема была не в этом. Он сидел за распространение наркотиков. Ему и парочке соотечественников выделили дом на окраине Гаваны, и у них появилась страшная фармакологическая ностальгия по дому, после чего они начали выращивать mota. А потом урожаи стали такими большими, что им «пришлось» продавать часть… по его утверждению, в настоящих социалистических обществах марихуана уже легализована. Во время судебного процесса, по его словам, он понял, что Фидель Кастро — точная копия Сталина.