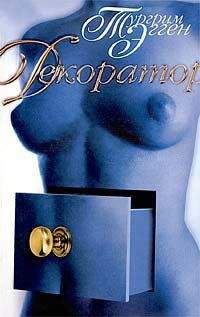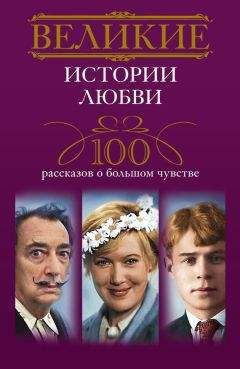Тургрим Эгген - Hermanas
Я написал на бумажке «запойный алкоголик» и показал Эусебио Векслеру. Он кивнул и поднялся, чтобы задать Чако несколько вопросов о том, сколько спиртного тот употребляет в неделю и не это ли та самая «болезнь», на которую он ссылается. Чако покрылся испариной и стал заикаться, но судья постучал деревянным молотком и сказал, что это «не относится к делу». И он, в общем-то, был прав. От об
винений в краже государственного имущества нам было не отвертеться.
Последний свидетель обвинения поверг меня в ступор. Поначалу я не понял, кто это. Он был только что подстрижен и одет в форму. Это был Эрнан Абреу, лейтенант Госбезопасности. Эрнан, оборванец и пейотный пророк! Никто не знал, где живет этот человек, поэтому все думали, что он был бомжом.
Эрнан рассказал, когда познакомился со мной, как и при каких обстоятельствах — в баре «Дос Эрманос» летом 1979-го. У него было задание внедриться в группу антисоциальных и контрреволюционных бузотеров и наблюдать за ними, а поскольку эта компания после моего ареста фактически распалась, он мог давать свидетельские показания, не опасаясь провала операции. Эрнан, по его словам, сразу распознал во мне одного из лидеров группы.
Я был готов ко многому, но происходящее было просто сюрреалистичным. У Пабло — а где, кстати, этот долбаный Пабло? — и то не получилось бы лучше. Эрнан был не просто внедренным агентом, но еще и провокатором. Это он познакомил меня с Пабло. И с Кико тоже, если не ошибаюсь. Я помню, что именно он сказал: «Ты один из нас». Он просто-напросто рекрутировал меня. Эрнан обладал способностью видеть. Во мне он с первого взгляда распознал оппозиционера, которому предстояло раскрыться полностью. Впечатляет. И разыгранный им спектакль впечатлил меня не меньше: я вспомнил, как откровенничал с ним, как мы часами беседовали о любви. Сначала я думал, что он потратил впустую довольно много времени, но потом понял, что постепенно рассказал Эрнану все. О своем отце, о сомнениях и лжи, о том, как Миранда раскрыла мне глаза на все это. И в конце концов я позволил ему редактировать свои стихи. Можно только посмеяться. Эти люди были такими талантливыми, такими хитрыми и ловкими, что просто волосы на голове вставали дыбом. А был ли Эрнан на самом деле голубым? Может быть. Что-то у них на него было, что-то серьезное. Но для той роли, которую он исполнял здесь, это было неважно. Эрнан не был обвиняемым, да никогда и не будет.
Его свидетельство представляло собой красочное описание всего того, что мне не стоило ни говорить, ни делать, снабженное передачей разговоров, которых я уже и не помнил. Он особенно подчеркивал, что я был «преступником по образу мыслей», и свидетельствовал он с целью обнародовать мое пагубное влияние на других: Кико, Пабло и Луиса Риберо он назвал поименно. Asociación para delinquir. Если бы мы были одни, я задушил бы его голыми руками. Но я помнил, как Эрнан умел пустить слезу, и понял, что сейчас наконец настала моя очередь сделать это: по мере того как это витиеватое и хорошо замаскированное предательство открывалось со всевозможных сторон, из моих глаз потекли слезы. Думаю, что даже если бы на свидетельском месте стояла Миранда и говорила все это, я бы не расстроился так сильно.
Мама ушла до окончания судебного заседания. Ушла навсегда из моей жизни.
Естественно, меня осудили. Эусебио Векслер произнес во многих отношениях великолепную заключительную речь, но у него было маловато сильных аргументов в мою пользу. Он просил о сострадании, и мы его добились. Я получил всего восемь лет.
Отбывание наказания началось в тот же вечер с пятнадцатичасовой поездки в поезде. Пятнадцать часов — это много, если ты сидишь прикованным к деревянной скамье, в вагоне, где ни влажно, ни сухо, и без чтива. Сиденья со скрипом напевали издевательскую песенку, слова которой я разобрал часа через два или три. В ней пелось: «И-рис-Ми-ран-да/Ху-а-на-Ми-ран-да/И-рис-Ми-ран-да…» Все дальше и дальше.
Обычно осужденных преступников, особенно политических, отправляли отбывать наказание как можно дальше от дома. С целью наказать их близких. В 1981-м в Гаване и окрестностях существовало от двадцати до тридцати тюрем и трудовых лагерей разных режимов, но меня отправили в тюрьму «Ла Пьедра» в районе Агуас-Кларас, к северу от Ольгина, в семистах километрах от дома. Мы, заключенные этой тюрьмы, называли ее просто «Агуас-Кларас».
Луис Фердинанд Селин написал, что если вы хотите понять страну, то достаточно просто осмотреть ее тюрьмы. Как я уже говорил, наказать кубинца непросто. Мы привыкли жить в антисанитарных условиях, ощущая нехватку почти во всем, питаясь по-нищенски, испытывая страх. Но в «Агуас-Кларас» нашли способ. Нас было около четырехсот заключенных в тюрьме, рассчитанной человек на двести. Никто не сидел в одиночной камере, и частью хитроумного наказания для неуголовных политических преступников было помещение их в камеры к уголовникам. Мой первый сокамерник, Фелипе, был убийцей. И мне не пришлось выяснять это у него за спиной, Фелипе рассказал все сам спустя полчаса после того, как нас представили друг другу. Он разбил своему дяде череп лопатой. Это произошло по пьяни во время спора о том, стоило ли Фелипе спать со своей двенадцатилетней двоюродной сестрой. Ничто в Фелипе не говорило в пользу того, что ему надо было выпить для храбрости, чтобы шарахнуть лопатой. И не потому, что алкоголь было невозможно достать. И не потому, что ему потребовалась лопата.
Ну ладно, и как же я должен был ему представиться? «А я — лирик»? Думаю, это вызвало бы у него не только возглас «Ууууу!». Когда я уселся на матрас, на котором мне предстояло провести одному богу известно сколько лет своей жизни, — большой неудобный тяжелый мешок, набитый чем-то похожим на солому и в котором, как я обнаружил позже, имелись жильцы, — я пробормотал что-то вроде: «А я политический». Это он уже знал. И Фелипе ненавидел контрреволюционеров. При виде их ему очень хотелось, чтобы у него в руках оказалась лопата. Конечно, именно поэтому нас посадили в одну камеру. Четыре квадратных метра.
Но несмотря на то что первые дни он постоянно мне угрожал и отбирал еду, когда считал, что не наелся своей порцией, он никогда меня не бил. Через несколько недель он смирился с моим присутствием. А потом между нами возникло нечто почти похожее на дружбу.
В тюрьме люди живут так близко друг к другу, что в действительности они могут выбирать только между дружбой и смертью одного из сокамерников. Я никогда не сомневался, что в нашем случае это будет моя смерть. Но независимо от того, насколько Фелипе ненавидел контрреволюционеров, тюремщиков он ненавидел больше.
В сексуальном плане я не представлял для него интереса, он предпочитал лежать и дрочить в темноте, издавая громкое противное хрюканье. Через некоторое время я привык к этим звукам, как к вечерней молитве. К сексуальным привычкам сокамерника привыкаешь так же, как к запаху его пуков, храпу, крикам во сне. Во многих отношениях это похоже на брак. В идеале супруги должны любить друг друга, но от этого они не перестают пердеть и храпеть. Ни для кого не секрет, что супруги иногда поднимают друг на друга руку, поэтому мы с Фелипе, может быть, были счастливее многих пар.
Первое решение, принятое мной в качестве заключенного, было немедленно начать курить. Некурящим не полагался сигаретный паек, и этим они исключались из экономической жизни тюрьмы. Сигареты — это деньги. На сигареты можно купить еду, алкоголь, писчую бумагу, книги и защиту. Мне, скорее всего, важнее была защита. Фелипе долгое время по-братски делил мой сигаретный паек. А иногда самому не мешает закурить сигаретку и отпустить мысли в свободный полет.
Вторым решением стало писать письма как можно чаще. Я полагал, что Миранда перебралась обратно к отцу, потому что квартиру у нас отсудили. Поэтому я направлял письма туда. Тюремную жизнь я описывал в туманных выражениях. Если бы я рассказал, как все обстояло на самом деле, цензура изрезала бы мои письма в конфетти. Я писал, что по-прежнему люблю ее, просил выслать свои фотографии и снимки Ирис. Обычно мне удавалось скрывать свои чувства — тюрьма не место для любовной тоски, но каждый раз, когда я садился писать Миранде, я плакал. В моих письмах было много тривиальных вопросов с двойным дном: С кем ты встречаешься? Что ты думаешь о том времени, которое мы провели вместе? Где ты будешь, когда я выйду на свободу? Я сдавал письма в положенное место, тюремщику, ответственному за почту, оплачивая марки сигаретами. Но не знаю, были ли эти письма отправлены. До получения ответа могла пройти целая вечность.
Фелипе не умел ни читать, ни писать: само по себе уникальное достижение для Кубы. Это было мне на руку: он любил слушать рассказы, и когда у меня была какая-нибудь подходящая книга, я читал ему вслух. Я помогал ему писать письма матери, по-моему единственной женщине, которую он любил. Она жила в Мансанильо в нескольких часах езды к югу и регулярно навещала его. Она привозила целые корзины разной снеди — свежие фрукты, водка, колбаса и консервы — и курево. Тюремщики брали себе немного, либо потому, что у Фелипе были привилегии, либо потому, что он был смертельно опасным. Случалось, Фелипе делился со мной этим изобилием. Трогательная черта характера моего сокамерника.