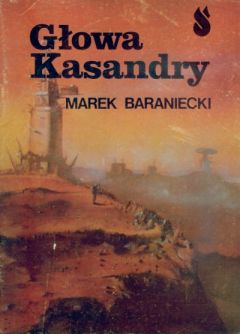Карта Анны - Шинделка Марек
Анна, ты тоже любишь фильмы о гибели человечества и подобные развлечения, у нас столько общего, ты счастлива в этом мире, ты понимаешь его разнообразие. Но не каждый с таким удовольствием купается в бесконечности. Шоумен в передаче «Готовим с Шоуменом» как-то раз втолковывал какому-то политику, помешивая солянку с сардельками: «Почему, на ваш взгляд, люди так любят войну?» «Не знаю, — ответил политик (лоб взмок, пальцы лезут за воротник, над солянкой поднимаются облака пара), — я как-то не замечал, чтобы ее любили» (улыбка, пот, усы).. «При всем уважении, — сказал Шоумен, — вы ничего не понимаете. Люди любят войну, потому что она проста. Намного проще, чем мир. Вы даже представить себе не можете, сколько народу сейчас втайне мечтает о тоталитаризме, о том, чтобы случилось что-нибудь страшное — геноцид, большой террор и тому подобное. Они устали от этой жуткой неопределенности, они для нее не созданы». Шоумен подносит ложку ко рту, прикрывает глаза, дует, прихлебывает, морщится, политик продолжает усиленно мешать лопаткой (пот, усы, улыбка, потом просто усы). «Наши тела — это машины для выживания, — продолжает Шоумен, по-дружески приобнимая политика за плечи, — в нас заложен огромный арсенал, наши тела — это оружие, мы готовы к борьбе, к испытаниям. Наша физиология не рассчитана на благополучие, наш мозг мается, и в отсутствие диктатуры он придумывает собственную. Мозг — капиталист. Злой буржуа, который копит время. Он использует тело для своих темных целей, располагая всеми нашими производительными и репродуктивными ресурсами, умеет говорить, умеет обманывать, способен во имя неосязаемого идеала довести остальной организм до ручки. Ради духовного спасения, которое нашему кишечнику и желчному пузырю не светит, мозг способен заморить их и себя в конце концов тоже. Он принуждает несчастных йогов по тридцать лет держать руку поднятой, пока та не превратится в костяную ветку, гниющую заживо, принуждает женщин, помешанных на похудании, чахнуть, спортсменов — раздуваться, как воздушные шары, ради своего удовольствия травит тело алкоголем, выжимает гормоны из надпочечников; мозг — неуправляемый дикий зверь, жаждущий времени, воспоминаний, которыми он лихорадочно обменивается с чужими нервными системами. Тело — это, дамы и господа, политическая структура, многоклеточная диктатура, клетки послушно и дисциплинированно рождаются и умирают, трудятся до изнеможения и гибнут, втоптанные в землю тысячами новых клеток; сердце — безумный осциллятор, настроенный неизвестно когда и кем, ритм, который миллиарды млекопитающих передают по наследству с незапамятных времен, сердце как метроном, под стук которого весь организм поет свою кровавую, живую, трудовую песню; „такую фугу не играл даже Себастьян Бах, а мы сыграем“, — поют тела высших приматов, тела рода Homo, учась делить конечности, полости тела и кожные производные на чистые и нечистые, на разрешенные и запрещенные, учась ненавидеть свою плоть и стыдиться ее, да мешайте же хорошенько, все же свернется!» Политик, до сих пор смотревший на Шоумена как баран на новые ворота, тут же принялся помешивать ложкой, бормоча что-то вроде: «Эмм, для нас важнее всего семья, эти, так сказать (усы), элементарные приличия, дети…» В общем, он понес полную чушь, и я в конце концов выключил телевизор и продолжил заниматься йогой, или тайчи, или холотропным дыханием, я тут сам не очень разбираюсь.
Мы идем по городу, в котором рекламные стратеги затосковали по изъяну, и тоска эта стала приносить им неплохие деньги — по изъяну затосковали все. Ненадолго останавливаемся перед двухметровыми старикашками на огромном ситилайте, которые ухмыляются, краснеют, высовывают языки, скалят беззубые рты и рвут на лысине последние волоски, потому что не подали вовремя заявление на формирование накопительной части пенсии. И словно в березовой роще, мы целуемся в этих зарослях пенсионеров. У нас неплохо получается, произошло чудо: поцелуев на свете было больше, чем звезд в галактиках, но сейчас в этой дедовской чаще все как-то по-новому. Все будто в первый раз, будто деформация окружающего мира высветила прекрасную простоту наших губ. Мы трогаем друг друга, рука моя заезжает Анне под юбку, мы целуемся под красными старикашками, словно под цветущими вишнями, Анна, я, наверное, влюбился. Но Анна уже выскальзывает из моих объятий; мы, к сожалению, не в чаще, а на трамвайной остановке, пора идти, времени мало, вот-вот разгуляется жаркий день, и капли дождя высохнут, как и наши хрупкие и не выспавшиеся нервные системы. Мы идем по улицам, которые заполняются людьми, все бегут, подгоняемые собственной головой, где творится что-то ужасное, о чем даже знать не хочется, но что в любом случае неизбежно. Именно в такие часы я начинаю чувствовать жемчужину мигрени в середине лба, белую, как вареный рыбий глаз. Анна, прежде чем встретить тебя, я мучился от жутких болей в голове, из-за них я почти ничего не видел вокруг. Это застрял во мне весь мир, он шипом впился изнутри в череп, ведь и я несу в себе бесконечность, и я полон чужого, о котором даже не просил и которое порой так саднит. Но ты снизошла ко мне, как самаритянка, как кристаллик льда, как холод, что разливается на языке, когда глотаешь снежинку, с тобою утихла вся боль. Я могу говорить с тобой, я знаю — ты меня слышишь.
Люди страшно одиноки, Анна. Но не в привычном смысле, как пишут в стихах и бульварной прессе. Они одиноки в своем мире, в этой своей сверхструктуре, которую никто, кроме них, не понимает. Им не с кем ее разделить. Птицы на крышах вьют гнезда в кронах антенн, и им совершенно неважно, что сквозь них проходит интернет, что через них с легким металлическим покалыванием, как если лизнешь батарейку, просачивается Шоумен, им все равно, что через их детенышей кто-то прямо сейчас скачивает порнографию, они чисты и свободны; лисы приспособились жить в мусорных баках, подсев на глутамат, и, свесив языки, израненные консервными банками, они воют на луну; корова превратилась в машину по производству молока, но сама того не понимает, не понимает, что кормит своим молоком половину человекообезьян на этой планете, а те, сидя в интернете, видят осознанные биосны, и через вебкамеры каждый наблюдает за своей коровой на пастбище, следит, чтобы она жила правильно, чтобы паслась по инструкции, которую ему вручили на митинге за права животных.
Человек — единственный вид на этой планете, действительно находящийся под угрозой. Он боится за свой мир. Когда гиперопечный пастырь Homo sapiens сгинет к чертовой матери, биотопам, пребывающим в сладостном бессознании, будет по барабану, лес точно не загрустит от того, что по нему больше не вышагивает высший примат с ружьем и не присматривает за популяцией зверей. Семейства животных лишь отряхнутся, сбросят с себя ненужные имена, понятия, классификации и принадлежности к классам, сольются в сладостной гармонии, в которой пребывали изначально. Мы одни, Анна, и от этого холодно. Человек отправляет в космос собак, обезьян, кого угодно, в конце концов даже самого себя, шлет по радио закодированного Моцарта и отсканированную «Мону Лизу» и — я чуть не плачу от умиления — надеется, что где-то в сгустках галактик найдется кто-нибудь столь же одинокий. О, это межгалактическое токование, эти радиотелескопические ухаживания! Мы смотрим в кромешную тьму ледяной бездны космоса, поем Моцарта так, как поют дети, чтобы побороть страх перед темнотой; Млечному Пути, словно папе, словно школьному учителю, показываем «Мону Лизу» и ждем награды, только Млечный Путь смотрит на картину с тупым равнодушием, это все равно что демонстрировать коню портрет орангутанга.
Кстати, где-то в начале века один конь смилостивился над нами и начал думать — погугли сама. Он складывал, делил и умножал; его хозяин, бывший учитель математики Вильгельм фон Остин вдолбил ему в голову таблицу умножения, назвал его Умный Ганс и стал на нем зарабатывать. Примерно в то же время (видимо, чтобы не отставать от своего собрата) начал думать один нес из Мангейма, звали его Рольф, после него остался том мемуаров и обширная переписка. Он выражал свои мысли, выстукивая лапой слова, причем с заметным пфальцским акцентом. Под конец жизни Рольф остепенился, сделался поэтом, страстным читателем, политическим комментатором, выучил несколько языков, но при этом, по свидетельству своей хозяйки, водившей его на прогулки, как-то скис, помрачнел, стал интересоваться философией и теологией и рассуждать о смысле собственной жизни, так что хозяйке становилось стыдно за свои поверхностные интересы. Анна, ты смеешься, но я могу поклясться. Der Kluge Hans, Умный Ганс, тоже кончил плохо, испортился: неосторожный или мстительный конюх (конь умел считать лучше него) привел на двор кобылу, и девственник Ганс, который до тех пор вел монашескую жизнь, посвятив себя безбрачию, науке и целомудренному наслаждению числами, этот замечательный Ганс потерял голову и от страсти разодрал себе брюхо о перегородку стойла. Пришлось засунуть ему кишки обратно и зашить. Самый выдающийся конь-математик окончил жизнь, влача жалкое существование на пригородном лугу. Старый Ганс снова превратился в коня. Мудрый пес скис и замолчал навсегда, и человечество вновь осиротело посреди бесконечного ледяного космоса, из глубин которого хитро поглядывает Большой взрыв.