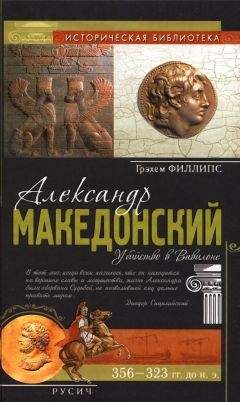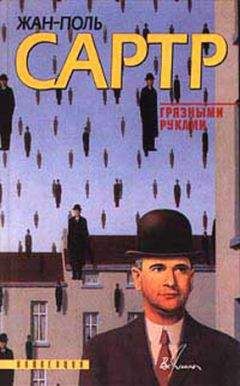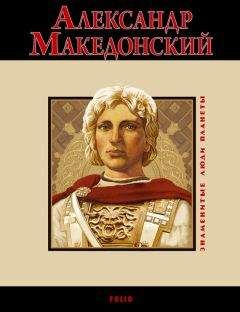Александр Яковлев - Голоса над рекой
Один раз мы с мамой вышли во двор. Была первая осень, когда ей после двух операций вздохнулось полегче, и мы гуляли.
Был листопад, лавочки были все в листьях, воздух синий и слегка морозный.
Было так замечательно, что я воскликнула, обращаясь к маме: «Ах, Ваше Собачество, как хорошо!» Откуда взялось это «Собачество», да еще «Ваше», да еще и обращенное к маме, — понятия не имею, но так это получилось здорово, так к месту(!), что мы обе были в восторге. Мы сидели на лавочке, на листьях, и хохотали. А потом мама написала это стихотворение.
А вот отец… Он вообще к стихам был равнодушен, но мамины стихи другое дело, но он и к ним тоже был… ну, он не то чтобы любил их или не любил, — он жалел маму. Из-за них, из-за того, что в них, в некоторых, то есть у него здесь свои стихи были…
Мама любила писать частушки и исполнять их с кем-нибудь из друзей, чаще с кем-то из мужчин, который тут же, как и мама, повязывал на голову косыночку (она приготовляла). Было очень смешно и весело.
Например, к 50-летию отца мама спела с одним нашим другом такие куплеты:
Пролетели утки стаей,
Их не видно сквозь туман,
Мы на фронте повстречались,
Я — ефрейтор, он — сержант.
Долго он все куролесил,
На губвахту все сажал,
А потом в любви признался,
Серым волком зарыдал:
«Полюби меня навеки,
Всесторонне я хорош!
Изменять тебя не буду,
Заболеешь — не умрешь!
Отец был доволен, смеялся, хлопал в ладоши, подпевал вместе со всеми:
«елки-палки, лес густой, в профсоюзе не застой!», и так далее. Казалось, ему нравилось все это, и действительно — нравилось, но в общем-то все эти частушки, эти шутки не имели для него особого значения, как, впрочем, и серьезные мамины стихи, да он и не знал их, вернее, не запоминал. Он знал только те, которые она писала, когда ей было совсем плохо, больничные… Только эти.
…Какие высокие окна,
А в КОМНАТЕ как-то темно…
То ли деревья большие
Свет застилают в нее,
То ли грустно очень
Тем, кто в комнате той…
За окошками больницы
Раскричались воробьи…
Стоит больница под синим небом,
За нею весны, поля под снегом…
…у автоматов,
у раздевалки
стоят родные
мне так их жалко!..
И снова больница, и город чужой,
И за окошком ветер…
Он не пронзительный, он… голубой!
ВЕРИТЬ!!
…Как страшно, как холодно,
Как чудно: не мне НА обход,
а ОБХОДА
Жду до рассвета каждую ночь,
В отчаяньи ЖДУ обхода!
… Стоит больница. В больнице люди.
Свои здесь судьбы. Свои здесь судьи…
Стоит больница — надежды лик,
Молочный шар люцеты — солнце…
Свои здесь темы. Свои здесь споры.
Свои здесь «звезды». Свои законы…
Одной из этих «звезд» была она. Чуть ли не самая крупная…
Подари мне осины лист,
Подари мне охапки осины,
Под небом вдруг яростно-синим
И тут же осенне-бессильным
Дрожащей осины твист…
Подари мне осины лист…
(Ему, мужу, посвященное стихотворение, как и следующее…)
Я прощаюсь с тобою, прощаюсь,
Каждой встречей с тобою прощаюсь,
Каждым утром прощаюсь снова,
Каждым утром этой весною.
С сединой я прощаюсь твоею
Головой белой-белой своею,
Но горящей веселой краской,
От страха кричащей, красной…
Эти стихи, отцовские…
И никакого там «ВОЗВРАЩЕНИЯ» (Хотя к жизни ведь!!), никакой «РАДОСТИ» («Под рукой моей окрепшей от картошки серпантин!»), или — «Я ЛЮБЛЮ, И НЕ НУЖЕН МНЕ ОТДЫХ! Я ЛЮБЛЮ СУМАСШЕДШИЙ СВОЙ БЫТ!», или это вот «СОБАЧЕСТВО», — ведь, казалось бы… а вот нет! — только эти окна, воробьи за окошками, ветер, раздевалки, только этой осины лист, это прощание…
… отцовские…
И еще одно стихотворение было. И он помнил его. Было оно к 70-летию ее отца, чуть ли не совпавшего со второй ее операцией, которую они от отца скрыли, то есть скрыли, что она будет и что сделана, — хватит с него первой, московской, — отец жил в Москве. Всего, что досталось тогда, — еще и до самой операции, целый месяц, когда она лежала и просто ждала очереди, а каждый день умирал кто-нибудь из соседей, больных, и после, когда она сама стала умирающей, и к ней не пропускали — лежала в реанимации.
Один раз сердобольная старушка-санитарка, тетя Ксеня, привела отца под ее окно:
«Гляди». Он глядел, стоя на каком-то строительном мусоре, поднимался на цыпочки, вытягивался — окно было высоким — видел никелированные головки кроватей, нескольких больных с забинтованными головами, но не ее, не дочь. Он плакал, стучал в окно, делал какие-то знаки, но из палаты никакого отклика не было, — он снова пошел к тете Ксене. Та кинулась в палату:
— Ты почему такая, а?! Лежишь тута и даже отца своего не хотишь посмотреть! А он стоит за стеклом на кирпиче и ничего тебя не видит, а ты даже рукой своей не хотишь помахать, ты рукой-то своей помахай ему!
А руки — свои — были у нее крепко сжаты в кулаки, парализованы и «прошиты» каузальгией. Была она тяжелой лежачей больной, сидеть не могла, повернуться не могла… Окна не видела — лежала к нему макушкой, да еще и во 2-ом от него ряду коек, у стены, но будь она и возле окна — не увидела бы отца… Чтобы увидеть, — много чего надо было — в зависимости от положения.
Если, скажем, лежишь на боку лицом к стене, надо было прежде всего повернуться на спину, — она этого не могла, хотя… казалось бы: уж этого ли не мочь? а она не могла… но — если даже оказывалась на спине, — чтобы увидеть, надо было еще сильно запрокинуть или вывернуть голову, что после операции и в теперешнем ее положении было абсолютно невозможно. Был второй путь: со спины повернуться на другой бок — лицом к окну, — но этого она опять-таки не могла, но вот если бы кто-нибудь ее повернул, а затем чуть приподнял!. Да, чуть! — она была такой легкой сейчас, что приподнять ее или хотя бы помочь приподняться — ничего не стоило! Но кто же?
Некому было.
Вообще-то как тяжелую спинальную больную, сестры и санитарки ДОЛЖНЫ БЫЛИ поворачивать ее МНОГО РАЗ в сутки, а несколько раз и приподнимать (ПРИ-ПОД-НИ-МАТЬ), чтобы не было пролежней, застоя в легких, но они не поворачивали, ну, может, повернут раз по настроению, а приподнять!.. Такого они и в дурном сне не видели! Об этом не могло быть и речи! ЭТО БЫЛО СМЕШНО!
Прекрасные продукты, что приносил ей отец, обслуживающий персонал забирал себе — по ее, конечно, просьбе: ведь достать их из тумбочки, тем более из холодильника, она все равно не могла.
Обслуживающий персонал должен был кормить таких больных, но он не кормил.
Отец редко потом рассказывал об этом, редко и скупо — не мог… Так вот, собираясь теперь снова на операцию, в Новокузнецк, она заранее подготовила подарок к 70-летию отца и красиво переписала то свое стихотворение — своей рукой, как и бланк с адресом для бандероли, чтобы отец не заподозрил, что она снова не дома, что снова что-то случилось. И только когда вернулась, хотя была еще тяжелой и в гипсовом скафандре, но все же дома, все же вторая эта операция — особая, пластическая — была позади, и теперь можно было как-то надеяться, — отец узнал обо всем.
Стихотворение ее то, об отце, начиналось так:
Мир огромный!
Мир счастливый!
Пусть не мой…
Она понимала, что прекрасный этот мир ей сейчас не принадлежит, что он действительно сейчас НЕ ЕЕ, но отец…
Отец должен был — обязан! — принять его, и не просто — СО ВСЕЙ ОСТРОТОЙ!
Она писала:
…Я хочу,
Чтоб сегодня ощутил Ты
Синей жизни красоту!
Чтоб в московском подземелье,
где весна всего явней,
где нельзя остановиться,
где кричит старик-еврей,
закалевший,
ошалелый,
обещая в лотерее
только счастье,
чтобы там
все мимозы,
гиацинты — все!
легли к Твоим ногам!
Чтоб подснежники сырые
белые и голубые
тыкались к Твоим бровям!
ВСЕ — ТВОИ!
Ты заслужил их!
Только будь красивый,
сильный,
чтобы этот мир счастливый,
весь в разрывах синевы,
был ТВОИМ!
Дело в том, что этот МИР ОГРОМНЫЙ, МИР СЧАСТЛИВЫЙ был отнят у него в 37 лет, и ей хотелось вернуть его отцу хотя бы сейчас, в 70 (и раньше, конечно, — как только он возвратился, просто раньше она не писала стихов), чтобы была радость, мимоза…
18 лет отец пробыл на Севере («На далеком севере нас ждут»…). Она переписывалась с ним все эти годы, с 15 лет, когда послала отцу свое первое письмо, первое письмо в жизни вообще, и — не куда-нибудь: в лагерь… И сейчас, почти полвека спустя, вспоминая письмо, все еще испытывала жгучее чувство стыда и боли.