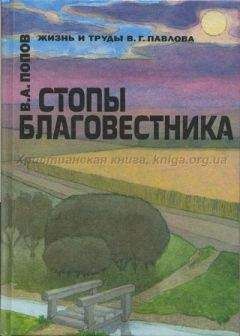Вячеслав Иванов - Перевернутое небо
Не думаю, что он подробно читал газетные статьи. Но когда Назым Хикмет, почти тайно (как иностранный коммунист в изгнании) в Переделкине (где его поселили на одной из дач) навестив Пастернака, принес ему греческие газеты или журналы, он их хотя бы просмотрел. Меня он по этому поводу спрашивал, как передается “в” в новогреческой орфографии – значит, его заинтересовала транскрипция имени героя романа. Он сказал мне, что его знание новогреческого получено из вывесок на этом языке, которые ему попадались в Крыму.
Постепенно стали приходить отклики на “Доктора Живаго”. Некоторые из доходивших до Пастернака разборов романа забавляли его полным несоответствием его замыслу. Особенно не имеющими никакого отношения к делу он считал многочисленные попытки символического толкования многих подробностей, в частности имен, упоминаемых в “Докторе Живаго”.
Давясь от смеха, он во время прогулки по переделкинской дорожке возле своей дачи пересказывал статьи, где обсуждалось противопоставление жизни и смерти в “Докторе Живаго”. Смерть проницательный критик усмотрел в фамилии Моро в упомянутом в романе названии фирмы “Моро и Ветчинкин”. Вторая из этих фамилий, как и фамилия самого доктора – главного героя романа, оказывались воплощениями жизни. Евгения Владимировна мне говорила, что нашла фамилию Живаго в старой записной книжке с адресами и телефонами – так звали одного из старых их знакомых.
Бессмысленные интерпретации Пастернак видел и во многих других работах о романе. Исключение он делал для статьи Франка, сопоставлявшей пастернаковское видение мира с философией современной физики. Эту тему Пастернак несколько раз развивал позднее в разговорах со мной.
Летом 1959 года (вероятно, ближе к концу августа) я застал его днем (кажется, улыбающегося) возле кустарников, росших у дачи, разговаривающим с сыном Женей, который в то лето с семьей жил в Переделкине. Пастернак заговорил о том, чем сделанное им в искусстве отличается от классики и чем в то же время, по его мнению, напоминает направление науки XX века (здесь он упомянул и статью Франка).
Он говорил о том, что манера письма, которой он вместе с другими писателями, художниками и учеными своего времени следовал, не нацелена на передачу мира или его частей. Они как бы скрыты занавесом. И мы пытаемся передать не предметы как таковые, от нас скрытые, а колыхание этого занавеса. Занавес шевелится, и по его движению мы угадываем, что вызывает это движение. Это и есть особенность науки и искусства (в том числе и литературы) нашего века по сравнению с предшествующими. Вспоминая потом этот разговор с Пастернаком, я думал о том, что этот его образ отчасти напоминает уподобление пещере у Платона: сидящие в пещере видят только тени, отбрасывемые теми предметами, которые движутся за ее пределами.
К подобной характеристике своего искусства в разговорах последнего года жизни Пастернак обращался не раз. Продолжая образы, возникшие или переданные им во время разговора на моем дне рождения 21 августа 1959 года, Пастернак пишет в письме Стивену Спендеру на следующий день: “Я бы представил себе „метафорически“, что видел природу и вселенную не как картину, неподвижно висящую на стене, но как расписанный холщевый тент или занавес в воздухе, непрерывно колышащийся и раздуваемый каким-то невещественным, неведомым и непознаваемым ветром”.1
На иждевении у Бориса Леонидовича всегда было несколько человек, и многим еще он хотел помочь деньгами. Переводы были нужны для жизни и для этой постоянной обязанности, взятой им на себя. После Нобелевской премии возможности получения переводческой работы и заработка стали иссякать. Одно время он собирался переводить ибсеновского “Пер Гюнта”. Он как бы советовался со мной об этом проекте. Я загорелся, мне казалось, что просторечность языка и музыка пьесы Ибсена (которую мне за год до того довелось слушать в Народном театре в летнем парке в Осло) Пастернаку должны удаться. У него не было хорошего норвежского словаря, я пытался достать. Но тут оказалось, что перевод ему не будет заказан.
Осенью 1958 года мы познакомились и вскоре подружились с Николаем Михайловичем Любимовым. Он вызвался договориться о том, чтобы Пастернак получил заказ на перевод одной из пьес Кальдерона для однотомника, который он тогда составлял. Условившись предварительно с Борисом Леонидовичем, я привел Любимова, приехавшего как-то в воскресенье к нам в гости, на дачу к Пастернаку. Тот сидел с сильно выпившим Ливановым на террасе, разговаривали после обеда. О переводе Кальдерона договорились сразу же. Через некоторое время Борис Леонидович говорил мне с удивлением: “Говорят, что Любимов остался недоволен, сказал, будто у меня неделовая обстановка (мне кажется, что это опять было со слов Ольги Всеволодовны или в ее передаче. – В. И.). А какая может быть обстановка на даче в воскресенье, в обед?” Не знаю, в самом ли деле Николай Михайлович так отозвался о той встрече, но так или иначе Пастернак принялся за перевод “Стойкого принца” и вскоре его кончил. Мне показалось, что больше Кальдерона его заинтересовал испанский язык. Очевидно, он читал испанский подлинник. Его поразили законы звуковых соответствий между латынью и испанским. Во время какого-то из следующих “неделовых” обедов на даче Борис Леонидович заговорил о них, приводя испанское соответствие латинскому “о” в “fossa” (“яма”). О Кальдероне он говорил, что по сравнению с Шекспиром это более узкий мир и в то же время более совершенный.
Вскоре Пастернак начал рассказывать о будущей пьесе “Слепая красавица”. Его занимал характер крестьян, их глубинный анархизм – “в них нет никакого холопства!” (он повторял, слегка изменив ее, формулировку из своих старых стихов – “В них не было следов холопства”), их неугнетенность, сказывающаяся в поговорках.
Пастернак не раз говорил, что “не разделяет нелюбви к театру”, тогда распространявшейся. Напротив, в театре он видел образец искусства, его прообраз.
Зашла речь о Тагоре – Пастернак начал его перечитывать по-английски (вскоре ожидалось празднование его 100-летия, но речь шла и о возможности перевода Тагора).
Борис Леонидович заметил, что религия у Тагора его не устраивает. Сразу наступает слияние с Богом. А Пастернаку хотелось бы “оперативного искусства, которое бы не чуждалось того, что происходит на улице”.
Среди присланных Пастернаку книг были издания Ницше, в том числе и то, что было подготовлено к изданию его сестрой. У Ницше он отделял близкое себе от многого другого, ему чужого (о Христе, например). “Когда Ницше читает Гете, вот твердое, прочное – в отличие от остального у него”.
Постоянное выяснение отношений с Ницше я отношу к пастернаковскому тайному (быть может, бессознательному) противоборству со Скрябиным. Пастернаку надо было найти себя в соотнесении с идеей сверхчеловеческого – скрябинского, ницшеанского.
Пастернак читал Бунина (его мемуарные записи) и находил, что “стихия язвительности”, проявившаяся в нем, как у Герцена, для России нужна. Но проза Герцена, “Сорока-воровка”, которую он прочитал во время работы над своей пьесой, ему решительно не нравилась. По поводу неприемлемой прозы у него было в это время одно определение – “как Эренбург”.
В это время Борис Леонидович говорил о чтении им Томаса Манна и Ромена Роллана. Его заинтересовало то, что они писали о мире (видимо, статьи и эссе общего характера; думаю, потому, что сам хотел что-то написать в этом жанре). По его словам, он заранее был настроен против этих сочинений, не знал, зачем их надо было писать. У Томаса Манна его раздражало повторение пар здоровье - болезнь и т. п. “Противоположности до абсурда, как у Мережковского”.
70
Когда у Ахматовой вышла новая книга (тонкая в красном переплете)1, она подарила ее Пастернаку через меня. Нужно было условиться об их встрече. Пастернак собирался прийти на мой день рождения. Там должна была быть и Ахматова. Казалось удобным, чтобы перед тем они встретились в тот же день на даче Бориса Леонидовича.
Вышло все нескладно.
Борис Леонидович позвонил Анне Андреевне поблагодарить за книгу. Она потом мне говорила с раздражением, маскирующимся усмешкой: “Это же написано сорок лет назад! Он меня никогда не читал”.
По этому последнему поводу мне случалось не раз спорить с Анной Андреевной. Она, конечно, слышала (и не от меня только), что Пастернак знал (даже и многое наизусть) ее ранние книги. Ее, я предполагаю, волновало больше всего, читает ли он последующие сборники и как оценивает ее попытки “перепастерначить” его.
А встреча их у меня 21 августа 1959 года оказалась “невстречей” из-за нескольких полуслучайностей.
За Анной Андреевной должен был в Москве заехать шофер моих родителей и завезти ее сначала на дачу к Пастернакам, а потом уже на нашу (соседнюю). Видимо, он не понял или спутал, машина приехала к нам, и Анна Андреевна, тяжело ступая, взошла на крыльцо. Переезды ей уже нелегко давались. Решили, что я схожу и предупрежу Пастернака, что Ахматова уже у нас. Очевидно, Бориса Леонидовича задела эта перемена планов. Они пришли с Зинаидой Николаевной вместе довольно поздно, когда уже садились за стол. Пастернака начали усаживать рядом с Анной Андреевной, но он очень решительно отказался и просил, чтобы его посадили рядом с Зинаидой Николаевной. Ахматова была удивлена и раздосадована этим недоразумением. Они оказались за столом друг против друга. Анну Андреевну попросили читать стихи. Она прочла “Подумаешь, тоже работа…” и “Не должен быть очень несчастным…”. Первое из них Пастернаку очень понравилось, он повторял (и запомнил наизусть – вспоминал на следующий день) строки: