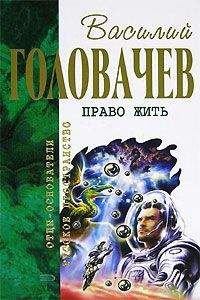Василий Дворцов - Манефа
— А с бурятами у русских в этих местах просто ножевые. Смешанных браков даже представить себе нельзя, что там, — даже после геологов метисов не осталось. Буряты здесь практически не знают лам, они здесь не столько буддисты, сколько шаманисты. Слыхали про религию бон? Тоже на свой лад староверы. Не зря же барон Унгерн именно здесь от красных уходил. Они его за своего великого шамана признавали. И сейчас молодёжь всё ещё Чингисханом бредит. Из благ цивилизации ценят только водку, мотоциклы и ружья. Живопись там, литература или балет просто вне их сознания, как проблемы какой-нибудь Альфа-центавры. И поэтому, когда вдруг появился посреди них одинокий русский, который с другими русскими не в общине, они даже немного ошалели. Ждали подвоха. Потом присмотрелись, стали понемногу пугать, пробовать на прочность: то стрельнут из тайги в окно, то лаек потравят. Не известно, чем бы дело кончилось, но тут я ненароком с их главным шаманом в санаторской столовой за одним столом оказался. На выборах случай был, тогда всех силой, не силой, но понуждали собраться возле урны. Забежал туда, сюда, пенсию получил и решил перекусить по-человечески, цивилизованно, с вилкой. Вижу — все столы забиты, а тут человек один сидит. Я и повернул к нему со своим подносом. Кто ж знал, что это сам Бадмаев. Сажусь напротив, здороваюсь, а он на меня даже не смотрит, глаза щёлочки, лицо огромное, каменное. Пробормотал он свои заклинания, покормил, как у них полагается, своих духов брызгами с пальцев, и начал есть. А что меня дёрнуло? Только я тоже вдруг перекрестился сам и перекрестил стол. И Бадмаев подавился. Стал задыхаться, покраснел и упал под стол. Хорошо в зале врачи были, откачали. Но все буряты вокруг поняли: мои «покровители» посильнее его. И с тех пор не трогают. Боятся, что заколдую, пока, по крайней мере… Вообще, это ещё одна великая ложь, что буддизм — мирная религия. Никакой этой пресловутой веротерпимости к другим у них нет, христиан они люто ненавидят, люто…
Обратно двигались медленно, нам с непривычки тяжело давался сыпучий подъём. Поэтому на верху седловины опять отдыхали, восторженно озираясь по сторонам на широко открывающиеся отсюда серо-голубые дали гигантских каменных волн. А Георгий не замолкал, доставая из своих тайников новые и новые откровения:
— Вот вы, оказывается, тоже в Молдавии были, и тоже в Кишинёве. А у меня там как раз самый главный перелом в жизни произошёл. То есть, я ещё долго внешне продолжал свою обычную жизнь, но именно там во мне родился кто-то новый, который постепенно рос и вытеснял прежнего. Пока однажды я вслух себе не сказал: я и есть этот я! Странно звучит? Но понятно… Я ведь офицер запаса. И не просто офицер, а контрразведчик, особист. Особо доверенный боец невидимого фронта с империализмом. С любой чуждой социализму идеологией. А в Кишинёве, и именно через Сынжеру, к вере пришёл. Это было в 1976 году. Да, я тогда закончил академию и угодил в Бессарабскую ссылку. Но моя невольная «экскурсия по Пушкинским местам» всё же гораздо была приятней, чем светившая «по Ленинским» в Сибири. Дело получилось так: моего шефа из Саратова, где после училища несколько лет служил и я, забрали преподавать в Москву, и он через год вытянул меня к себе на учёбу, с вариантом там и остаться. Да, Москва, Москва. Как много в этом звуке… Так как я человек абсолютно без совминовских родственных связей, то мой шанс сделать карьеру был один — диплом с отличием. Вот я и старался, грузил себя по полной. Режим расписал по минутам, тянул как олимпиец, без единой поблажки. Но ни одной четвёрки за всё время себе не позволил. Только отлично. Личная жизнь отсутствовала полностью. Что делала в это время моя супруга, меня совершенно не интересовало. То есть, мне казалась, что она, как жена офицера, просто обязана обеспечить мой тыл в такое напряжённое время. Хозяйство и ребёнок, опять же, как мне казалось, должны были быть на её плечах, пока я не сделаю этот свой прорыв. Мы же вместе мечтали о Москве…
Короче, когда я впервые обнаружил у нас в общежитской комнате странную самопальную книжку про какую-то чайку, то не обратил на неё ровно никакого внимания. Потом самиздат стал появляться всё чаще: «Письмена» Рериха, Кришнамуди, Папюс. Появилась и некая весьма ведьмообразная подружка, вся в каких-то огромных бутафорских перстнях, которая упорно со мной не разговаривала. А затем я увидел на столике жены фотографию смуглявого волосатика. Попробовал походя обсмеять её позднее увлечение рок-ин-ролом, но вдруг получил такой горячий и злобный отпор, что невольно заинтересовался. Выяснил, что это фотография ни какого не певца, а «учителя», и что она уже с полгода ходит на занятия по релаксационной гимнастике, саморегулированию и йоге… Виноват, конечно, но я запаниковал и сорвался. Мне бы нужно было спокойно попытаться оценить сложившуюся обстановку, найти новые формы для доверительного разговора, — ведь не враг же был передо мной, а всё ещё любимая женщина! Но я был тогда на пределе, а эти её дурацкие игры с диссиденствующими экстрасенсами могли стоить мне всей карьеры. Ведь кто мог подумать в те времена: жена особиста — и йога! Это было равносильно предательству Родины. Посему я и сорвался, решил разом всё отсечь. А отсёк только себя. Она на какое-то время затаилась, попрятала всё от меня, тем более это, с моей занятостью, было нетрудно, а когда я пошёл на защиту, то вдруг заявила о разводе. Дочь ею предварительно была уже отправлена к тёще. Меня как лавой обожгло. До угля, до пепла. В общем, всё разом рухнуло, всё стало каким-то бессмысленным. Даже не карьера, а сама жизнь… Лучшее, что мог сделать для меня шеф, это был Кишинёв. А то я вообще мог бы поплёвывать с какого-нибудь берега в море Лаптевых. Представляете, как я, убеждённый и научно подкованный материалист, тогда относился ко всем религиям без разбора…
В офицерском общежитии военного городка я оказался соседом такого же недавно разведённого подполковника. Я тогда майором был. Первое время, пока принимал дела от предшественника, знакомился с оперативной обстановкой, было не до знакомств. Однако рано или поздно появились и свободные часы. Ну, понятно, дело холостяцкое. Но ведь и не молодое, — с пацанами по девчонкам, с лейтенантами, мне уже не удобно бегать было. Вот я и стал к соседу удочку подбрасывать: в ресторан, там, на пляж вместе прошвырнуться. Причём в почти приказном порядке: «Ты, мол, город знаешь, вот и веди». В его душевные проблемы я тогда погружаться и не собирался. Опять вспомнить время нужно, — особисту просто так в лоб в дружбе не отказывали, за это можно было перед пенсией и в Забайкальский округ загреметь. Поэтому наш интерес ценили, заигрывали по любому поводу. Но он от меня вдруг и так, и сяк стал откручиваться, всё какие-то уважительные причины находил. А меня, как только понял, что он мутит, скрывает что-то, словно заело: ах, ты, ну, погоди, думаю, всё равно разожму. И начал разжимать. Но никак не получалось. Уже и в лоб ему смеялся: «Может у тебя с этим делом что не в порядке? Вот и жена сбежала». Смотрел, как он кривится от злости, но терпит. Дальше тогда больше, уже и при свидетелях стал подкалывать, хамил как мог. Понятно, это я свою боль от развода на нём вовсю отыгрывал. Да так его безответностью увлёкся, что даже забывать стал, с чего цепляться начал. Ну и достал его всё-таки в конце концов. Он мне и говорит: «Одевайся в цивильное, и пойдём в один погребок на Ленина». — «Дегустационный? Повыше главпочтамта?» — «Угу». — «Замётано!». Выехали в город, прогулялись по центру. Спустились, сели. Он сразу по полной коньяку наливает. Славный, помню, был «Кодру», дорогущий, но густой и тёмный как шоколад, стоил своего. Мы его залпом, как на дуэли. И сразу же по второй. По третей. И пошли помаленьку откровения. Сидим в подвальчике, пьём молча, а когда, как бы покурить, наверх выходим, то вначале чуть не шёпотом, а затем уже и матом друг руга во весь голос. Матом, конечно, я, а он просто орал. Начали с порядков армии, потом и «повыше» заглянули. Пошумим и опять вниз к молчанию. Но я чувствовал, что политика в нашей беседе — семечки. Вот и давил, давил на все возможные болевые точки, учили всё-таки, пока он не раскололся, чуть не со слезой: «Что ж ты меня, мол, мытаришь? Другого объекта нет? Привязаться не к кому?» — «А чем, спрашиваю, твоя жизнь так особенна, что ты меня в неё впустить не хочешь? Ведь оба мы не одни погоны продырявили, оба с Академиями, оба на возрасте бабами брошены и только фотокарточки детей с собой носим! Что тебе от меня скрывать?» — «От тебя всем всегда есть что скрыть». — «Ах, говорю, как ты про КГБ! Вот тебе слово офицера: всё здесь как в могиле!.. Понятно, я, особист, для вас всех как поводок для собаки… Ну, а если бы ты на меня, как просто как на собрата по несчастью посмотрел? Мы же с тобой, поди, одни сны смотрим?» — Тут он как-то странно, я это потом всё время вспоминал, вдруг трезво посмотрел и говорит тихо-тихо: «Сны мы разные видим. Очень разные». Опять в зальчик спустились. Только теперь уже вино пили. «Негру де пуркар». Потом — снова курить. Тут он и бахнул: «Не могу я вот так просто по блядям ходить. Я в Бога верую». Я и просел. Как, — советский офицер, подполковник с Академией, — и в Бога?! «Да как ты можешь? Ты же не бабка с хутора?» — Он вдруг захохотал: «Ой, говорит, а тебе и не понять! У тебя же профессия такая: никому и ничему не верить!» Хохочет не переставая, видимо от страха передо мной истерика началась. А я как петух спросонья: «Профессия у нас одна — служить Родине!» — Он даже каблуками прихлопнул: «Всё теперь? Выяснил мои антисоветские настроения? Можно идти?» — Уже отошёл, но задержался и бросил почти через плечо, небрежно так: «Я тебя за слово офицера не держу. Плевать, — надо, так стучи. Надоело вас всех бояться, всё равно узнали бы».