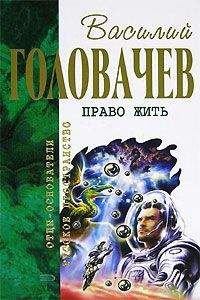Василий Дворцов - Манефа

Обзор книги Василий Дворцов - Манефа
Василий Дворцов
МАНЕФА
МАНЕФА
Мать Манефа крохотными, то шаркающими, то хлюпающими шажочками пробиралась вдоль бесконечного реечного забора. Грязь была непролазная, какая только бывает в северном сибирском селе самой глубокой осенью. Тяжёлые грузовики-вездеходы вдрызг размесили раскисшую за два месяца рыжую глину с крупным привозным песком и серыми опилками, глубокие колеи напоминали залитые водой брошенные окопы и воронки неизвестной войны, и для пешеходов остались только тонюсенькие прерывистые тропки по самым краям оголившихся мокрых палисадников. И темнота, темнота — хоть глаз выколи. До монастыря такого тыркающегося слепого ходу было ещё не менее получасу, и она опаздывала, опаздывала на службу впервые в жизни. А всё сестра. Разболелась, свалилась пластом и распустила хозяйство. Пришлось благословляться у игуменьи, и целый день провозиться в избе — сменить у больной постель, помыть полы и настоявшуюся посуду, протопить печь и наварить картошки. И потом ещё она почистила в стайке, покормила оголодавших кур и гусей, перебрала в подполе заплесневевшую морковь… А вот капусту украли. Срубили с корня явно свои, соседушки. Только пеньки в огороде и остались. Воспользовались, злодеи, затянувшейся болячкой, в общем-то, всегда подозрительной и бдительно вредной, готовой постоять за своё «бабки Семёнихи».
Воспользовались… Воровали вообще в последнее время в посёлке как-то совершенно безбожно. Совсем не так как раньше, когда в основном таскала с грядок молодёжь, так, более из озорства, нежели от голода. Теперь от всеобщей круговой безработицы крали зло, нагло, часто последнее. Старики уже не держали коров, — их резали на выпасах заезжие, с того берега Оби, но явно-то по наводке своих. Коровы пропадали у самых незащищённых. Да что уж там коровы, если собак половину уже съели. Собак! Пьяницы.
Манефа опаздывала на службу. Самый конец этого ноября выдался удивительно тёплым, первый обильно и рыхло выпавший снег стаял, нового всё не было, да и вообще днём постоянно стоял плюс. Грязь за ночь толком не промерзала, в калошах дальше двора не походишь. Монахиня очень осторожно переставляла ноги в огромных резиновых сапогах, взятых напрокат у вратарщика Сергия-болящего, высоко в кулаках зажимая широкий подол подрясника. И чуть не плакала. Тридцать лет ходит в церковь, последние десять только и живёт этим, и вот — такая неурядица! А всё темнота. Осенняя липкая мгла обняла со всех сторон неожиданно, — ведь выходила-то она от сестры, когда совсем ещё только-только смеркалось, а вот теперича… стыдоба… Когда на невидимой колокольне бухнули в первый раз, сердце отозвалось горьким укором. Манефа отпустила юбку, охолодевшими, негнущимися пальцами левой руки перехватила узелочки самовязанных чёток, а правой быстро и колюче перекрестилась: «Мать моя Богородица, Царица небесная, не остави меня, грешную, не остави меня!». Глаза закрылись под внезапно обретшими свинцовую тяжесть веками. Защипало солью. Колокол бухнул во второй раз, в третий. «Мати Пречистая, умоли сына своего и Бога нашего, да простит мне прегрешения мои, да оставит долги мои. Как же так? Как же можно опоздать? И зачем я так задержалась! Зачем? — Покормила бы сестрицу, и ладно! А то вот же — поддалась на уговоры: „скотинка, огород“! Царице моя преблагая, надеждо моя Богородица! Прости, прости меня…».
И вдруг как чьё-то дыхание коснулось лица, теплом прошло ото лба к подбородку. Кто там? Манефа открыла глаза и… словно некий невидимый фонарь освещал перед ней край уличной обочины на пару метров вперёд. А в голове вдруг стало так ясно и звонко тихо, что только одна мысль лишь и билась пульсом около виска: «Слава Богу, слава Богу, слава Богу»… Манефа сделала маленький робкий шажок в это освещённое пространство, потом, уже смелее, другой, третий… Свет двигался вместе с ней. Неяркий, не дававший вокруг себя никаких теней, он просто-напросто плыл впереди, мягко определяя лужи и колдобины, разбросанный строительный мусор и коровьи с лета лепёхи. А колокол звал, звал…
Надеждину свадьбу гуляла вся деревня. Странно, но её никто и никогда по другому и не звал: как родилась четвёртая дочка в семье Семёновых, так сразу и заговорили — Надежда. Отчего-то всем вокруг было с самого начала ясно, что это будет человек серьёзный, немелочный, и уважение к нему необходимо выказывать изначально соответствующее. А ещё она выросла красивой. Не яркой красавицей, но и не милашкой, не симпатягой какой-нибудь. Красивой. Её правильные черты лица, гордая осанка и плывучая походка, словно неведомым магнитом тянули к себе взгляды и мужиков и баб. Даже свои, привычные, семейные непрестанно чувствовали, как с возрастом её светло-серые глаза, тяжёлую косу, тугую стройность тела заполняла некая, не позволяющая шаловливости, величаво гордая сила. А уж тем более это понимали и принимали все окружающие. И не ломали черёмуху в палисаднике, не толклись у калитки, поплёвывая семечками, и не дрались на пятачке за клубом ровесники, когда пришла её пора выходить замуж. Все понимали: её женихом мог быть только самый, самый. Такой и был в селе он один — высокий, сильный, голубоглазый… Всё произошло как по писанному: просто она повелительно твёрдо посмотрела в его голубые глаза на танцах, и он, вдруг понурившись, пригласил её на кадриль, потом на падеграс. А потом почти молча, терпеливо не отмахиваясь от одуревших от цветения черёмухи комаров, проводил до дома. После он провожал снова и снова. В какой-то раз она опять сильно и долго посмотрела на него из-за прикрытой уже калитки, и он, также понуро хмурясь и притаптывая только что пробившуюся крапивку, предложил выйти за него замуж.
Наверно оттого, что Михаил был таким правильным, как только может представляться деревенским жителям работящий, серьёзный и вдумчивый муж, мать Надежды даже для приличия за дочь не поревела, а прохлопотала все дни с поджатыми губами, совершенно затюкав, наоборот, как-то вдруг осевшего отца. Вроде бы и свадьба для их семьи была уже третья, — кроме брата Ваньши, уехавшего куда-то строить неведомые города, старшие сёстры были вовремя и в очередь пристроены, — но папаша тосковал, явно тосковал по любимой дочке… Свадьба шла как по колее. И в первый день, после того, как жених с дружками где силой, где подкупом, всё же сел рядом с невестой, то, за неимением попа, отец и мать сами отчитали уже незнакомые молодым молитвы и благословили их иконами. Только вот не нашлось иконы Спасителя, её заменили на Николая-Угодника. Кто бы на это обратил внимания… Свадьбу гуляла вся деревня. Гуляли широко, пели протяжные хохлядские песни за сколоченными вдоль стен горницы столами, покрытыми невыбеленными холстами, а плясать под ядрёные русские частушки выходили во двор. Было удивительно мирно, кажется, даже мошкара в эту плотную от пожеланий и намёков ночь никого не трогала. Ни единой драки.
И только была та свадьба 21 июня 1941 года. На второй день, когда уже жених под прибаутки и хохотушки пальцами выковырял из чурбака глубоко вбитую ребром мелочь, а новобрачная ублажила гостей пышным пирогом с фантами и загадками, вдруг прискакал с парома на толстой, чёрной от пота кобылёнке почтальон и гаркнул прямо в народ: «Война!»…
Мишу, её Мишу взяли в район ровно через месяц. Их, двадцать призывников, всех в белых рубашках, везли на одном длинном баркасе, а провожающие односельчане на десятках лодок плыли через вздутую мутную от своего изобилия Обь поодаль. В какой-то лодке гармонь пьяно нащупывала плясовую, но никто не подхватывал. Все всю дорогу молчали. Молчали и потом, у райсовета, когда молоденький и весь какой-то дёрганый офицерик, в новеньких скрипучих ремнях, рвано и бестолково кричал деланным баском о советской Родине и долге. Запомнилось его кукольное лицо и этот ненастоящий, словно из живота голосок. И, лишь когда длинный — в километр, не менее — неровный, изломанный неумением равняться строй из семисот, испуганных новым званием воинов, парней и мужиков потянулся вниз, под гору к пристани, где уже ждал, дымя огромной полосатой трубой и похлопывая от нетерпения колёсами, томский пароход, все разом закричали. Кричали страшно, натужно. Бабы вопили и выли так, словно уже знали: из этих семисот вернутся лишь пятнадцать.
Надежда не получила от своего мужа ни одного письма. В октябре на той же чёрной лошади почтальон привёз похоронку. Сунул и поскакал обратно. Ей самой было странно, но она перед этим ничего не почувствовала. И в этот момент тоже. Как будто неправда какая-то. Обида.
Домой к родителям Надежда не вернулась. Перезимовала в своей вдовьей хатёнке первый раз. Перезимовала во второй. Под вторую весну стал к ней под разными предлогами заглядывать конюх Петруха. Страшно худой, из-за грыжи не взятый на войну, он, наверно, был в общем-то жутко смешон, когда не находя слов, просто по полчаса сидел на лавке около окна, и только молчал, приглаживая красной негнущейся пятернёй постоянно прилипающую ко лбу редкую белесую чёлку. Ей было неуютно от его присутствия, от этого вечно жалкого, только просящего взгляда. Но и выгнать вот так просто, из-за того, что Петруха был нетрезв, было невозможно. Ведь, действительно, до свадьбы не было у её Михаила преданнее дружка, чем этот Петруха. Он был самым верным Мишиным заплечником, ходил хвостом, был тенью везде и во всём, кроме как сватовства. Да, до свадьбы. А на свадьбе даже на второй день догуливать не пришёл. И с ней, уже как уже Мишиной женой, здоровался только издали, не подходя. Но улыбчиво.