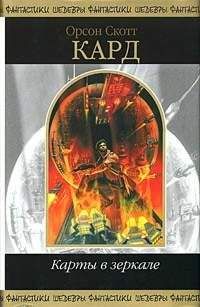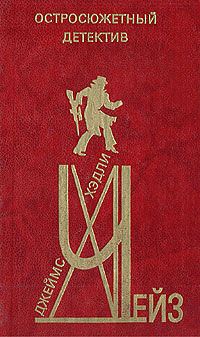Феликс Кандель - Первый этаж
Хотели уже бежать по домам, складывать вещи, пока начальство не передумало, но встал один мужичок, дошлый, въедливый, скрипучий, спросил насчет инвентаря, коров, лошадей, прочего имущества. Будут ли его сразу делить промеж всех, или сначала продадут, а уж потом выдадут деньгами? Председательствующий очень удивился, он и не понял даже, чего это должны раздавать задаром государственное имущество? Дошлый мужичок в ответ напомнил, что имущество в колхозе не государственное, а кооперативное, – стало быть, общее, – что лично он при вступлении в колхоз в одна тысяча девятьсот тридцать первом году отдал корову, лошадь, весь инвентарь, что за эти годы их общим трудом и первоначальным вкладом хозяйство стало таким, какое оно теперь есть, и что по всем правилам надо имущество продать и разделить на всех. Председательствующий подумал, подумал, удивился пуще прежнего... и закрыл собрание.
Так они из колхозников превратились в независимых городских жителей. С паспортом, пропиской, с ошеломляющей свободой катиться на все четыре стороны до самых что ни на есть государственных границ. Тут дед Никодимов и оплошал, дал обидную промашку. Пригласили его в учреждение, предложили квартиру: восьмой этаж, окна во двор. Дед отказался наотрез. Дед потребовал первый этаж, окна на улицу. Первый этаж – ближе к земле. Окна на улицу – чтоб веселее было. Что ему, молчуну, веселье? Привычка проклятая попутала. Во все века окна в избах на улицу рубили. Настоял дед на своем – и влип. Теперь перед домом огромный, загазованный проспект, на проспекте машины – вереницами, рев от них, будто самолеты взлетают, и обалдевает теперь вся дедова семья от вони и грохота.
Переехали в город, дед сразу в сторожа пошел: куда еще? С первой получки взыграл дед, с бабой Маней на радостях словечком перекинулся. Деньги, чистые деньги! А потом глядит: за картошкой на рынок, за молоком в магазин, за луком в овощной. Веник – и тот покупать надо! А в магазине выкладывай чистоганом, а на рынке свой брат крестьянин цену заламывает. Все удивлялся раньше, как это в городе продают всякую травку, что у него под забором не сеянной росла. Какой, думал, дурак покупает? А оказалось, он-то дурак и есть. Да еще за квартиру плати, за газ плати, за воду – тоже, за горячую – отдельно. Не напасешься!
Теперь дед Никодимов на пенсии, на малых своих копейках. Вся пенсия бабе Мане идет, на хозяйство, а он отправляется по утрам с коляской по помойкам, собирает ценный утиль. Заработает рубль с медью – и сразу в кафе. Суп, каша с мясом, сладкого компоту два стакана. Поест – на кровать завалится. Проснется – еще поест. Тощий дед, просеистый, чистое решето: вся еда насквозь проскакивает, без задержки. Постарел дед, силы-желания песком утекли: на одну еду только и взыгрывает. Копить он не копит: на кой? Когда помрет, пусть хоть на помойку выбрасывают. Может, кто подберет, в утиль сдаст, целковый заработает. Все – польза от деда.
Рупь-двадцать... Рупь-двадцать… Рупь-двадцать...
14
Дед Никодимов загребал увечной ногой.
Дед Никодимов волок добычу в нужное место.
Плечо перерезало проволокой чуть не до кости. Руки обрывало год тяжестью. Поясницу гнуло и корежило. Терпел дед молча, страдал покорно: привык ко всякому.
Подошел к двери, ткнулся – закрыто. Поднажал плечом – заперто. Сбросил на землю мешки, прислонил кроватные спинки, сам сел сверху, руки меж колен свесил: просыхал дед на легком ветерке.
Вывернула из-за дома мусорная машина, лихо, на скорости, подкатила к палатке. Ржавая дедова коляска торжественно ехала сверху, блистала на солнце остатками никеля. Шофер захохотал при виде деда, а грузчик выпрыгнул из кабины, оглядел набитые мешки, присвистнул с уважением:
– Во дает! Только раскурочили, а он опять полный...
– Дед! – шофер за рулем радостно разевал рот. – Где ж ты набрал столько? Как допер, соколик?
– Оборвать соколику голову, – сурово сказал грузчик. – Чтоб не чирикал.
– Нехай... – веселился шофер. – Нехай живет. Для нас человек старался.
Дед зашевелился, встал на ноги, загородил телом богатство. Грузчик толкнул легонько, он и завалился на полные мешки.
– Это наше, – объяснил грузчик. – Все наше. Сдадим прямо с мешками.
Задубасил кулаком по двери.
Вышел на стук приемщик утиля, мордастый, коротконогий, крепенький мужичок, оглядел безрадостно тусклым глазом.
– Эй, принимай добро!
– Ревизия... – потерянно сообщил приемщик.
– Чего?
– Того...
– Прими, – попросил шофер, – ехать надо.
– Ревизия, – повторил тот и обессилено привалился к двери.
– Погодит твоя ревизия, – осерчал грузчик. – Людям пожрать не на что, а они прохлаждаются.
Приемщик на это не ответил. Только вздохнул мощно, кузнечным мехом.
– А, гад... – взъярился на него грузчик. – Влип, падлюга? Не будешь в другой раз бумагу водой мочить. Думаешь, я не видал? Я все видал,.. – И подступил близко, сказал с грозной ухмылкой: – Ну, сказать? Сказать им, как вес нагонял?
– Говори, – покорно согласился тот. – Они сами знают...
– Ах, так твою, перетак! – грузчик материл приемщика-вора, начальничков-дармоедов, которым делать нечего, только ревизии устраивать, жизнь треклятую, порядки неладные, весь белый свет воедино и деда Никодимова в придачу. Даже шофер-весельчак обозлился, матюгнулся за компанию, заорал в расстройстве:
– Скидавай к матери!..
Скинули с машины тряпье, кости с бумагой, долбанули напоследок дедовой коляской об асфальт. Взревели мотором, развернулись на пятачке, рванули сходу по дороге: только мусор из полных баков по сторонам брызнул.
Приемщик недвижно стоял на пороге, тупо глядел вслед. Тоже, видно, хотелось ему укатить подальше, да на хорошей скорости, но теперь уж некуда. Подцепили ниточкой – не отвяжешься. Был раньше мужичок-балагур, развеселый, под хмельком, шутник: красное, парного мяса, лицо вечно лоснилось в улыбке. Хлебная работка, непыльные дела. Когда принимал у деда утиль, хватал коляску, кидал – вроде, по ошибке – в кучу железа, сыто похохатывал от дедова испуга. Теперь лицо у мужичка потускнело, побурело – цвета обветренного лежалого мяса, и даже кожа на щеках повяла, морщинилась старой морковью.
Дед Никодимов встал с мешков, подошел к приемщику, заглянул в глаза,
– Ревизия, – сказал тот тусклым шепотом. – Можешь, дед, понять? Ревизия.
Дед Никодимов шумно выдохнул, переступил кедами по асфальту. Совсем как лошадь, старая, смирная лошадь, которая и от слепней не отбивается: обтерпелась за долгую жизнь.
– Нешто я виноват? – спросил приемщик жалобно. – А чего они коньяк продают? Бананы-апельсины? Сервизы? Меха всякие? Чего дразнят-соблазняют? – Охнул, сказал сокрушенно: – Вот я и влип, дед... Ой, влип!
Дед Никодимов ничего на это не ответил. Подхватил связанные мешки, волоком подтащил к двери, прислонил рядом кроватные спинки.
– Экий ты, дед... – укоризненно сказал тот. – Приема не будет. Теперь и окончательно.
Глотнул напоследок вольного воздуха и ушел внутрь, плотно притворил дверь.
Дед Никодимов сразу и не понял. Как так – не будет? Всегда бывало, должно и теперь. Приложился ухом к двери, услыхал чужой, напористый голос, который чего-то доказывал, услыхал голос приемщика, непривычно жидкий, жалобный, который оправдывался, и голоса за дверью убедили деда. Не будет приема. Нет, не будет. Теперь и окончательно.
Деда Никодимова тоска винтом скрутила. Деда на жаре озноб заколотил. Куда теперь податься? Куда богатство девать? Время – обедать, а у него не продано. В другие дни давно бы уж проел заработанное, спал себе на кровати, сытый да разомлевший, сопел в обе ноздри, а тут – весь день навыворот. Можно, конечно, домой пойти, баба Маня за стол усадит, супчику плеснет. Но дед на супчик глядеть не желает. Дед привык обедать в кафе. Суп-харчо, азу по-татарски, компот из сухофруктов. Гурман, дед: что ему теперь этот супчик?
Наклонился с кряхтением, поднял коляску, погрузил на нее мешки, сверху уложил кроватные спинки, не поленился – подобрал тряпки, кости с бумагой, что мусорщики побросали, да и побрел потихоньку по улице. Коляска прогнулась под тяжестью, колеса вихляются на разные стороны, верещат жалобно, а дед позади идет, на ногу припадает, Далеко приемный пункт, а идти надо. Тяжела жаркая дорога, а выбора нет. Рупь-двадцать... Рупь-двадцать... Рупь-двадцать...
15
Как дошел до места, и сам не помнит. Оглох: в ушах молотки стучат. Ослеп: глаза пеленой застлало. Ноги – чужие. Руки – привязанные. Горло – сухое, до самого низа. А внизу желудок сосет, тянет, требует пищи лакомой. По дороге голову закружило – постоял в тенечке. По пути колесо отвалилось – примотал проволокой. Доехал дед! Дотянул до места. Довез добро в полной сохранности.
Встал на пороге, ногтем поскреб в дверь.
Вылезла из палатки румяная тетка в широченных штанах, оглядела его сердито – и сразу в крик: