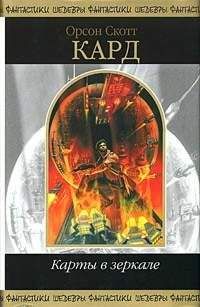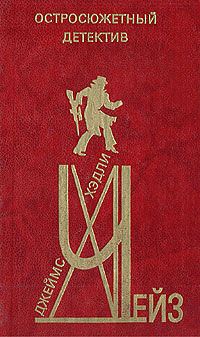Феликс Кандель - Первый этаж
– Нежный какой. Сейчас у него нервы, а потом хоронить не на что будет.
– Его СОБЕС похоронит, – хихикнул сладенький старичок. – За двадцать рублей.
– Да я... – захлебнулся парень. – Я, может, разобьюсь еще... Хоронить нечего будет.
– А ты кто есть?
– Летчик, вот кто!
Все замолчали.
– Летчик – не летчик, – примирительно сказала толстая кассирша, – а от этого не уйти. Как постареешь, копи, парень, двести рублей.
– Сто! – крикнула строгая женщина. – Сто, не больше!
– Двести... – кассирша оплывала на глазах, но держалась стойко. – Я, мамаша, помру скоро. Мне ли не знать?
– Чего тебе помирать? – отшутилась баба Маня. – Теперь лето. Летом, вон, и мухи оживают.
– Не, мамаша, я сон видала. Говорит мне кто-то, с лица темный: "Тебе помирать скоро". А я: "Чего это помирать? Поживу еще". – "Мало ли что... – кричит. – Помирать тебе – и точка!"
Вся очередь притихла, глядела на кассиршу с жалостью, будто прощалась.
– Зеркало разбить, – добавил сладенький старичок, – тоже к смерти. А еще, будто зубы во сне выпадают.
– Да ну вас к черту! – взбеленился парень. – Накаркаете тут... Мне к вечеру в Хабаровск лететь!
И выскочил на улицу.
– Летчики, – сказала строгая женщина, – они все психованные.
– Ничего... – мечтательно сощурился старичок. – Хоронили мы и летчиков.
– За двести рублей, – шепотом откликнулась толстая кассирша, – кого хошь похоронишь...
– Сто!
– Не, двести...
– Хватит! – взвизгнула строгая женщина и смяла изжеванную папиросу. – Я устала с вами!..
– Двести, – упрямо повторяла чуть живая кассирша. – Скольких перехоронила...
Но баба Маня уже не слушала. Заворачивала сберегательную книжку обратно в тряпицу, опускала в глубокий карман, пристегивала булавкой, шептала успокоенно:
– Нужно двести, а у меня семь сот. У меня больше... У меня хватит...
Радость-то какая! Накопила, девки, накопила!.. Теперь и помирать не грех. Помрет – в тягость не будет. Так бы и задрала голову кверху, так бы и крикнула в самое небо: "Забирайте меня! Я совсем готовая!"
Шла по улице, подолом обтирала стеночки, глядела на всех с удовольствием. Вот она какая хозяйственная, вот какая заботливая: из жизни уходит – все дела за собой подбирает. Не то, что нынешние торопыги. Торчком, рывком, кое-как. Как жили, так и помирают. А баба Маня ляжет в гроб, руки на груди сложит: все, отработала, свой срок, жизнью до конца попользовалась, и нет за ней, за бабой Маней, никаких долгов.
Пора уж.
Самое время.
Деньги скоплены – нужно помирать.
Тут она и увидала в сторонке своего мужика. Дед Никодимов стоял с неразлучной детской коляской у мусорных баков, выбирал оттуда утильные вещи.
– Старый, – позвала баба Маня, – а старый... А я ить помру скоро...
И прослезилась от жалости.
9
Дед Никодимов даже не обернулся. Старательно ковырял палкой в мусорном баке, по сторонам не глядел. В блеклой, стираной ковбойке, в байковых, затертых на заду лыжных штанах, на ногах – кеды.
– Дед... Слышь, чего говорю?
Лицо у деда длинное, по лошадиному костлявое, все во вмятинах-отметинах, как лунная поверхность, словно всю жизнь долбили дедово лицо неумолимые метеориты. Глаза навыкате, нос тонким крючком, рот – щелью от копилки, волос на голове слабый, редким пухом, уши прижаты к черепу, как у загнанного волка, виски впалые, щеки провалены вглубь, будто друг в дружку изнутри упираются, и щетина на них жесткая, проволочная, что на "ерше", которым чистят бутылки.
– Дед, – огорчилась баба Маня, – помру – осиротеешь...
Дед Никодимов не стал с ней говорить. Дед с детства уходил от разговоров. Дед не терпел пустой болтовни, лишних слов, всяких ненужных собраний: угорал дед на собраниях. Даже воробьев не терпел: чирикают, сволочи. Даже кошек – мяукают. Даже петухов – орут почем зря. Вот только с лошадьми хорошо сходился, да еще с самим собой. Иной раз месяцами слова не скажет, а когда – хочешь, не хочешь – надо говорить, первое, застоявшееся слово с трудом выползает через отвыкшее от разговоров горло.
– Старый, – пожалела баба Маня, – а старый. Пошли – супчику плесну. Промялся, небось...
Дед Никодимов молчком уходил со двора. Сам длинный, ноги тощие, голенастые, в коленках не гнутся: шел дед по асфальту, как грач по пашне. Шел – припадал на ногу. Давным-давно, еще в молодости, груженым возом ступню переехало, размозжило косточки. И потому прозвище деду с незапамятных времен: "Рупь-двадцать". Здоровой ногой – рупь, больной – двадцать. Здоровой – руль. Больной – двадцать. Рупь-двадцать... Рупь-двадцать... Уходил хромой дед со двора со своей детской коляской: железо у коляски ржавое, колеса вихлявые, с поросячьим визгом, и внутри, вместо ребенка, пустые мешки под утиль.
Баба Маня глядела из-под руки вслед: лицо сморщила, глаза сощурила. Жалость нахлынула на бабу Маню, волной обдала. Покатилась следом по двору мелким, неслышным шажком, догнала, пристроилась сзади, стала утешать:
– Как схоронишь, шибко не убивайся. Ешь давай, спи, в баню ходи. Белье у тебя целое, чиненое... Девкам дашь – постирают.
Торопилась, будто не успеет, говорила часто, с придыханием:
– Помирать стану – супу наварю на неделю, каши. Капусты насолю, огурцов. Комнату приберу. Гречки куплю, лапши, соли... Все – меньше ходить.
Дед Никодимов шел ходко, коляска визжала пронзительно. Баба Маня обмякла от жалости, стала отставать. Вздыхала прерывисто, говорила громко, без разбору, что на ум взбредет:
– Вина не пей… Детей навещай... Ешь ко времени... Одевайся чисто... – И совсем уж невпопад: – Старый, не срамись. Не срамись, старый...
Потом она встала. Глядела, как выходил со двора дед Никодимов, как нестерпимо блестели на солнце затертые на заду брюки. Будто совсем уходил дед, из ее уходил жизни. Захочешь удержать, а нечем. Только привычно заныл рубец на носу – дедова отметина.
– Трофим... – позвала шепотом, со слезой. – Ты уж приходи на могилку-то. Слышь? Приходи навестить...
Дед Никодимов и не обернулся. Вышел на улицу, пересек мостовую в неположенном месте, быстро покатил коляску в соседний двор. Рупь-двадцать... Рупь-двадцать... Рупь- двадцать... Время уже не раннее, а он – без поживы. Заработать еще не заработал, а жрать все равно хочется.
10
Ехала навстречу мусорная машина, везла порожние баки. Встала, ткнулась бампером в коляску, загородила деду проход. Шофер в кабине захохотал радостно, забибикал злорадно, грузчик на подножке заорал в азарте:
– Ну, попался, подлюга? Дави гада!
Дед Никодимов стоял молча, недвижно, глядел прямо перед собой, в радиатор. Уж давно у деда нелады с мусорщиками, не первый раз. Пока они объедут свои помойки, да пока сменят баки, дед спозаранку прытко обежит, все ценное выберет. А мусорщикам обидно: это их добыча, законная.
Грузчик тяжело спрыгнул на землю, сплюнул на деда окурок, пузом уперся. Здоровый мужик, не старый еще – дуб дубом, и дед против него – дерево дуплистое, корявое, изнутри труха.
– Сказывали тебе? – И запыхтел прямо в лицо непереваренной мясной пищей. – Говори, сказывали?
Дед Никодимов смотрел прямо, дышал со свистом, совсем не шевелился. Словно не к нему обращались, не от него ответа ждали, не его сейчас бить будут.
Грузчик по-хозяйски залез в коляску, перетряхнул пустые мешки, раскидал по асфальту.
– Ну! – заревел, озлобясь. – Чего с тобой делать? Переломать бы другую ногу, чтоб дома сидел... А?
– Точно! – шофер высунулся из машины, рот разинул от восторга. – Ноги выдернем, спички поставим…
– Ух, и врезал бы я тебе... – сказал грузчик с наслаждением, с едкой ненавистью, и дернул к себе коляску: – Пусти-ка! Сдадим на утиль.
Дед Никодимов не пустил. Вцепился намертво – рук не разнять. Грузчик рванул посильнее, задергал из стороны в сторону, но дед держался крепко, голодной собакой за последнюю кость. Только голова моталась вслед за рывками, да ноги елозили по асфальту.
– Ах ты, гнида!.. – взревел тот и стал отдирать дедовы пальцы. Одну руку отцепит – он опять хватается. Другую оторвет – он снова за ручку. Только пыхтение тяжкое, скрип от коляски жалобный, на весь двор. Шофер чуть не помер со смеху, глядя на эту картину. Такой смешливый шофер попался: живот заболел от натуги.
Остервенел грузчик – "Мать, твою, перемать!" – рванул изо всех сил, перекрутил дедовы руки, оборвал пальцы. Забросил коляску на машину, на порожние баки:
– Трогай!..
А шофер уже икает в изнеможении:
– Как же я трону? Как?.. Вон он – на дороге стоит.
Дед Никодимов стоял на дороге. Стоял – глядел в радиатор. И видно было: раздави теперь деда – с места не сойдет. За свое, за кровное голову сложит.
Грузчик подскочил к нему, обхватил поперек живота, с натугой оттащил в сторону:
– Давай!
Шофер аккуратно проехал по дедовым мешкам, ни одного не пропустил, а грузчик обернулся напоследок, заорал свирепо: