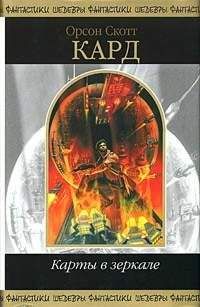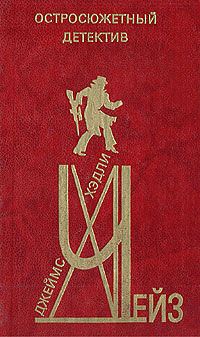Феликс Кандель - Первый этаж
– Давай!
Шофер аккуратно проехал по дедовым мешкам, ни одного не пропустил, а грузчик обернулся напоследок, заорал свирепо:
– Попадись еще... Шею сверну, падла!
Потряс кулаком.
Дед Никодимов постоял немного, поглядел вслед, как увозят его коляску. Губы сжаты, щеки провалились глубокими ямами, и только волосы на голове шевелились легким цыплячьим пухом, пеплом от погасшего костра. Потом он собрал мешки, запихнул в один, пошел прежней дорогой. И все без единого слова, молчком. Шел по асфальту, как грач по пашне. Шел – припадал на ногу. Рупь-двадцать...Рупь-двадцать... Рупь-двадцать...
11
На соседнем дворе ему крупно пофартило. Нашел рубаху, штаны драные, тряпья клубок – полмешка. Набрал обуви старой – еще полмешка. Напихал бумаги газетной, мятой, заляпанной белилами – мешок. Не иначе, кто-то большой ремонт делал, барахло из дома выбрасывал. Лучше стали жить люди, богаче: по помойке все видно. Раньше штопали-чинили, латали-лицевали, до вторых дыр занашивали, на барахолку потом относили, а теперь почти целые дед в утиль тащит.
Взвалил мешок на спину, другой, с бумагой, рукой подхватил да и заковылял в приемный пункт. Шел мимо гаражей, – как сердце учуяло, – завернул к забору. А там – гора горой! Таз медный, кастрюля дырявая, ведерко сплющенное, железяки автомобильные, две кроватные спинки. Вытаращился дед на такое богатство, даже вспотел от волнения: крупная добыча не часто попадает. Растерялся, завертел по сторонам головой: без коляски как утащишь? Выкинул бумагу из мешка, – черт с ней, с бумагой, цена ей, бумаге, всего ничего за килограмм, – засунул туда таз, кастрюлю, ведерко, железяки автомобильные. Схватил спинки от кровати, уволок в сторону, запихнул в щель между гаражами. Завтра придет – заберет.
Пошел дед по двору: один мешок на спине, другой, с железом, – волоком. Вышел на улицу, дотащил до угла, а там – шум-гром! Трубы трубят, в барабаны колотят: шагает по мостовой стройная колонна шныриков. В галстуках, со знаменем, по четыре в ряд. Заметался дед с мешками, задергался: а ну, как рассыплется строй, да побегут по дворам шнырять, бумагу-железо подбирать? Эти шнырики – самые его враги. В любую дыру заглянут, во всякую щель заползут. После них хоть не ходи: подчистят не хуже муравьев.
Схватился дед, поволок мешки назад, к гаражам. Бежит, торопится, пока шнырики не обогнали. А трубы следом трубят, сердце пионерским барабаном колотится... Торопись, старый! Торопись, пока не поздно!
Прибежал к гаражам, из щели кроватные спинки вытащил. Подобрал брошенную бумагу, запихал в порожний мешок. Чтоб ничего поганцам не досталось! Бумага ведь тоже его, дедова. Цена ей, бумаге, какая-никакая, а есть. Хоть и малые, но копейки.
Стоит дед на открытом месте, всем на обозрение, прилаживается так, прилаживается эдак, а унести не может. Хоть стой, хоть падай – рук не хватает! А трубы надрываются, а барабаны по голове колотят... Идет отряд строем, со знаменем, по четыре в ряд, идет за дедовым барахлом! В спешке подобрал кусок проволоки, связал два мешка, через плечо перекинул. Аж присел дед под тяжестью! В одну руку – мешок с бумагой, в другую – кроватные спинки: пошел потихоньку, припадая на ногу.
Трубы примолкли, барабаны утихомирились: отстали шнырики от деда, смирились с поражением. А у него проволока плечо режет, спинки руку оттягивают, мешок в ногах путается, едкий пот глаза заливает. И тащить не дотащишь, и бросить не бросишь. Положение, что жизнь дедова: и жить не живет, и помирать не помирает.
Рупь-двадцать... Рупь- двадцать... Рупь-двадцать...
12
Дед Никодимов – мужик не простой.
Дед Никодимов – мужик с норовом.
Ему этот мир задаром не нужен. Его не спросили, с ним не посоветовались, выпихнули на свет Божий: живи дед, как знаешь. Был в этом деле подвох, был произвол и голое администрирование, словно приехал уполномоченный из центра и распорядился насчет деда: где ему жить, кем быть, что ему делать. Чуял дед несправедливость, нутром чуял, неосознанно, и потому жил машинально, не от души. Нужда была – терпел. Беда была – кряхтел. Работа была – надсаживался. И все в пелене, в тумане, приглушенно и расплывчато. Будто и не жил он вовсе, а неприкаянно бродил по свету, в вечном похмелье: медведь-шатун посреди зимы. Мог злодейство учинить, мог геройство совершить: настроен был на это одинаково.
Даже пил дед неинтересно, в одиночку. Выпив, не радовался, не веселел, не пел песни. Мрачнел, дурел пуще прежнего: даром переводил самогон. По большим праздникам, с хорошего подпития, брал бутыль под мышку, выставлял за ворота стол с закуской, гулял на виду у деревни. Подходили, будто невзначай, хмельные мужички, давились жадной слюной, упрашивали отлить по стаканчику, а дед пил сам, молча, никому не давал – кураж показывал, нарывался на злую драку. Угрюмый был дед с молодости, дикий и бесстрашный: на пятерых в драке ходил. Как начнет руками махать, валятся, будто на просеке. И все молчком, с лютой злобой. У него и собаки жили, у деда, злые, кусачие, хватали тоже молчком, намертво. Каков хозяин, такие и собаки. Одного кобеля – не вытерпел, сам удавил: злее хозяина оказался.
Иной раз накатывало на деда темное, дурное, кровью застилало глаза: хватал топор, сослепу шел в сарай, рубил головы курам, цыплятам, поросенку. Страшный, окровавленный: метался по сараю от угла в угол, с плеча махал топором. Соседи мимо избы не ходили, свои, домашние, разбегались кто куда. Когда совсем становилось невмоготу, уходил в дальние леса, бродил там сутками. Черный, заросший, тело волосатое: на горле и то волосы росли. Бродил по глухомани, боялся человека встретить. Встретит – убьет.
Ему бы, деду, родиться пораньше, годков на триста. Ему бы в вольницу, ему бы к Разину, да с саблей, да на ладьях – вылетать с гиканьем из-за волжских укрытий, пограбить, понасильничать, пролить кровушки правого-виноватого, душу потешить, голову сложить на плахе, под вострым топором. Промахнулся дед со временем, ах, промахнулся! Только и повольничал, что у себя в сарае, пролил вволю куриной кровушки. А что ему еще оставалось? Деду на веку выпало: родись у того-то, живи там-то, занимайся тем-то. Вот он и родился, вот он и жил, занимался случайным делом.
С незапамятных времен работал дед при лошадях, возил сено, возил картошку, навоз возил, все, что придется. Сколько лошадей поменял, сколько сбруи перетер, сколько телег поломал: сам стал, как лошадь. Когда надо, впрягался в оглобли, выворачивал из любой глины. Сутулый дед, ребра внутрь прогнулись, ноги скривились, на костях мослы наросли, буйная растительность с тела сошла, как со шкуры облезлой. Когда через века обнаружат дедовы кости, восстановят по ним облик сегодняшнего человека, ахнут в изумлении наши потомки. Неандерталец, чистый неандерталец! Будто и не было до него никакой эволюции. Найдут дедову кость, восстановят облик – вся стройная система мирового прогресса полетит насмарку.
А дед все возил, возил непрестанно. Сколько годов прошло, сколько событий – все мимо него катилось, телегой пустой, гремящей на колдобинах. Колхоз у деда был слабый, вечно отстающий, председатели менялись постоянно, и кто мог, кто половчее – выправлял паспорт, удирал в город, насовсем. Появлялись в колхозе случайные руководящие товарищи, – налетом, наездом, – давали команды, проводили великие эксперименты с полной гарантией на успех: что сеять, да как, да где, да в какие сроки, и исчезали внезапно и насовсем, будто где-то дергали за веревочку, а взамен них появлялись новые товарищи, давали указания другие, прямо противоположные, с еще большей гарантией. Они приходили неизвестно откуда и уходили неизвестно куда, и вечными своими ошибками пытались доказать вечную свою непогрешимость.
А дед Никодимов все сидел себе на конюшне, да ходил за груженым возом, да молчал за компанию с лошадьми, а вечером приходил домой, ел помногу – и на печь. Дети внизу ковырялись, внуки шебуршились тараканами, а он храпел свирепо, сотрясал потолок. Огрубел дед за долгую жизнь, кора наросла слоями: сколько отдирать придется, пока до сердцевины доберешься. А может, и не доберешься совсем – одна кора. Его ножом режь, пилой пили, огнем пали: все без разницы.
13
Где-то рядом, в городе, жил родной брат деда, знаменитый Игнат Никодимов, гордость деревни, большой начальник по строительной части, но дед не интересовался братом, и городом тоже не интересовался. Случалось, возил туда грузы, брел по улицам рядом с телегой, ни на что не любопытствовал. Может, проносился мимо него в персональной машине знаменитый Никодимов, может, проходил неподалеку или в окно выглядывал: деду было начхать.
А потом город пришел к нему под окна. Стали ломать избы, переселять в большие дома. Собрали колхозников на последнее собрание, объявили торжественно, что они теперь городские жители, вольные люди. "С паспортом?" – недоверчиво поинтересовалось собрание. "С паспортом, товарищи, с паспортом". Аж гул прошел по комнате! Аж плакаты на стене заколыхались!