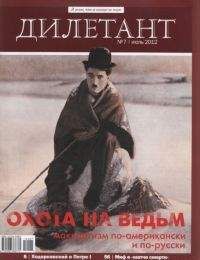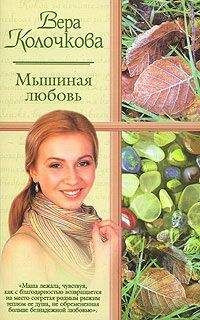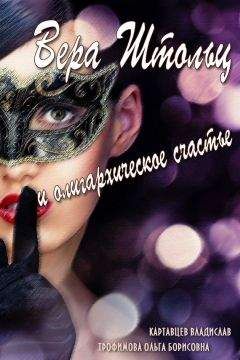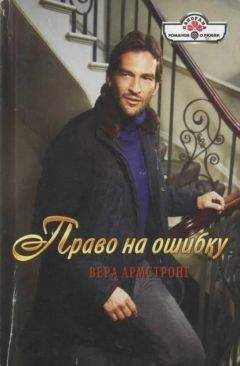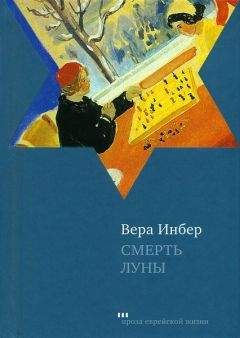Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Медведь»
— Литература — дело гораздо более безответственное. В кино написал — и должен показать, а если этого не может быть, значит, ты написал неправду. Я поэтому даже в сценариях никогда не пишу: «Внезапно налетевший ветер коснулся его души…» Я пишу то, что можно показать: встал-пошел. Остальное должно вырастать из этого. Кино учит конструировать вот эту зримую конкретику, а не оперировать абстракциями, как сплошь и рядом делает литература. И это наркотическое занятие — создавать реальность; употребляя слово «наркотическое», я не хочу придавать наркотикам положительный смысл (потому что снимать кино — занятие бесспорно позитивное), но другого термина нет. Я уже впал в зависимость от этого способа рассказывания: я создаю то, что вы видите. Это гораздо многоплановей и увлекательней, чем просто повествовать.
— Тарантино сказал, что будет снимать до шестидесяти. Вам шестьдесят пять, и признаков кризиса я не наблюдаю — напротив, то, что вы делаете сейчас, мне нравится больше, скажем, «Песен о Родинке». Что за самоощущение у режиссера после шестидесяти?
— Никакой принципиальной разницы. Это же все вещи очень относительные… Но расхожая фраза насчет режиссуры после шестидесяти — Тарантино своим фирменным знаком сделал элегантное манипулирование штампом — есть, и я очень боялся этого рубежа. Но чего особенно боишься — то, как правило, и не происходит. Пример: у меня была лучшая премьера в жизни — «Анна Каренина» в Михайловском театре, в Петербурге. Это было божественно: толстовские герои в раме этой сцены, этого зала! Я честно тогда сказал, что если б мне на выбор предложили вот это и премьеру в Канне, я отказался бы от каннской премьеры с легкой душой. И вот пока это грандиозное событие готовилось, меня все предупреждали: Кехман (генеральный директор Михайловского театра, если не знаете) непременно тебя подставит. Он всадит тебе нож в спину! Я боялся его настолько, что пятился из его кабинета задом, дабы он не всадил мне этого ножа. И все получилось превосходно, и я до сих пор не могу понять, на чем основан слух об исключительном коварстве Кехмана. Шестидесятилетие — а мне только что действительно исполнилось уже и шестьдесят пять — оказалось таким же Кехманом: я отлично лажу со своим возрастом и принимаюсь за новую картину. А чего еще делать? Если только жить и думать, сколько прожил, с ума сойдешь.
— У меня есть теория, что кто много работает, тот меньше живет. И вследствие этого почти не стареет.
— Это совершенно справедливо. Я даже думаю, что кто меньше живет — целиком, так сказать, перемещаясь в кино, — тот может и не умереть.
— Вы свозили дилогию в Армению — как там принимали? «Время новостей» написало, что «Анну» в целом приняли, тогда как «Ассу» вообще не поняли.
— Но это же написали не армяне, верно? Приняли прекрасно. Единственная проблема — «Анна» шла в зале без кондиционеров: я видел обмахиванье бумажками и был уверен, что после почти трехчасовой картины меня просто убьют. Это уже стало доброй традицией — показывать «Анну» в зале без кондиционеров. Вероятно, это связано с тем, что сам я задумал ее ставить, тогда еще в телеварианте, в формате британской «Саги о Форсайтах» — на чужой даче, в гостях, когда лежал на солнце и страшно обгорел. Но как-то я не замечал этого, потому что от «Анны Карениной» исходило прелестное ощущение, словно кто-то гладит меня прохладными пальцами: я чувствую такое только от самых высоких образцов искусства. Эта жара странным образом сопровождает все премьеры. Но армяне все вынесли и «Ассу», кажется, восприняли адекватно — а чего, собственно, там не понять?
— Например, почему голова воскресшего Бананана пришита к телу уголовника. Этот же мотив — душа интеллигента подселяется в тело уголовника, и тело побеждает — есть у Петрушевской в «Номере один»: наверное, вещь неслучайная?
— Наверное, неслучайная, хотя в процессе сочинения сценария я верю только в случайные. Тут уж действительно чем случайней, тем вернее. Кино не терпит умозрительности, поскольку имеет дело с реальностью, с визуальностью: сконструированное сразу торчит. В первоначальном сценарии не планировалось воскрешение Африки…
— Я слышал, что и самого сценария не было.
— От кого?
— От Друбич.
— Как такового не было, то есть то, что получилось в результате, предельно далеко от первоначальной истории. Грубо говоря, было что обсчитывать. И в этом эскизе Бананан отсутствовал, но потом пришла идея его воскресить — а к кому еще могла быть пришита его голова в окружающем мире, в текущей действительности? Только к телу уголовника. И уж только потом обнаружилось, что девяностые годы, грубо говоря, и прошли по этой схеме: голова романтика, пришитая к телу «быка». Уверяю вас, если бы схема была изначальной, ничего бы не вышло.
— Я-то думал, что вы будете защищать то время, говорить, что и у него свои плюсы…
— Не буду, конечно.
— Я еще когда смотрел трилогию «Песни о Родинке», поймал себя на том, что после всего этого балагана выхожу в настроении крайне минорном, как минимум элегическом.
— Оно таким и было. Вторая «Асса» — тоже балаган, но душный. И время душное, и настроение после картины должно быть соответствующим.
— Однако я знаю, что этой же осенью у вас запланирована премьера третьего фильма.
— «Одноклассники», да. Мы довольно быстро ее сделали. Это сценарий моей студентки, Сони Карпуниной. Она собиралась делать короткометражный диплом по этой истории, принесла мне три странички — очень предварительный набросок. Я прочел и задумался: мне тут померещился полнометражный фильм, и я у нее этот замысел — не отобрал, а попросил. Предложив в порядке компенсации главную роль. Это история про выпускной вечер, про некоторое совершенное на нем безумство и расплату за него.
— Но нет ли тут момента некоторого режиссерского самоубийства — выпустить одновременно три картины?
— Почему? Так сложилось просто. Я вам объясню: обычно после каждой законченной картины я стараюсь приступить к следующей, желательно без перерыва. Это не трудоголизм и не мания величия, что вот, я непременно должен что-то поведать человечеству, а просто есть такой феномен, как последний день перезаписи. Вам любой режиссер скажет. Вот у вас идет перезапись, и у вас разрываются оба телефона, и вы нужны всем, и от вас зависит все. И перезапись кончилась, и картину увезли печатать, и вы проснулись на следующий день. Телефон молчит. Молчит городской, один мобильный и второй мобильный. В судьбе картины от вас не зависит больше ничего. Вы не нужны никому. И если у вас в этот момент нет в работе сценария или хоть завалященькой идеи, вы сходите с ума. Кстати, именно поэтому и нужен Союз кинематографистов, который не должен быть, я думаю, ни профсоюзом, ни богадельней, ни лоббистской организацией, добывающей у властей деньги на кино, а просто клубом. Местом, где общаются. Чтобы человеку в первый день после перезаписи было куда пойти. Там же, в клубном формате, должны формироваться те общие ценности, которые помогают профессионально оценивать друг друга.
— Вам кажется, что Никита Михалков — идеальная фигура для формирования общих ценностей?
— Я знаю Никиту Михалкова много лет, работал с ним, он у меня снимался… Ну что такое, Никита — не Никита, все равно кто-то будет! Я люблю Никиту. Я люблю Марлена Хуциева. Это не личный конфликт между ними, это конфликт фигур, шахматная ситуация, оба они в известном смысле ее заложники, и я уверен, что все это как-то разрулится.
— На «Анне Карениной» работали две ваших жены — Друбич и Васильева, оба ребенка — Дмитрий сыграл, Аня написала музыку, а также много друзей. Как вам работается с родными и ближайшими?
— Да у меня так складывалось, что всю жизнь я работаю с родными. Это единственный ведомый мне способ работы — группа как семья.
— Сто таких не наберешь.
— А я набираю! Я работаю в основном со своими, иначе у меня не получается. При слове «кастинг» у меня холодеют лодыжки. Я вообще, понимаете, не люблю ходить на работу и не могу ничего делать систематически: кастинг — страшное официозное слово. Это же кого-то вызывать, кому-то отказывать — мне проще иметь дело с теми, кого я знаю. Это не исключает профессионального подхода, наоборот: вот наша с Таней дочь Аня написала вальс для «Анны Карениной», я звоню другу моему Исааку Шварцу и говорю: «Изя, Аня написала вальс, не посмотришь ли ты?» Она едет под Петербург — он ведь за городом живет, — консультируется у него по оркестровке… Но и она, и Шварц — в широком смысле члены семьи. Мне проще так. Другие люди не вынесли бы пятнадцатилетней работы над картиной, когда она останавливалась, прекращалась, возобновлялась и вообще попадала под все паровозы, от дефолта до кризиса.