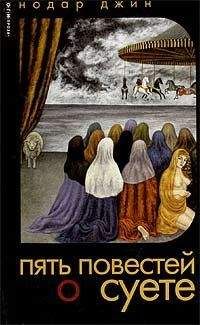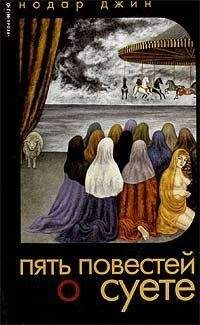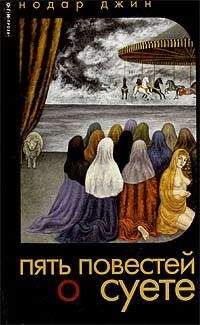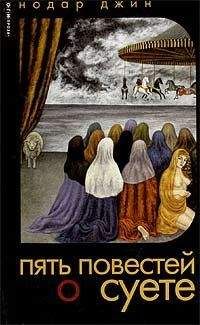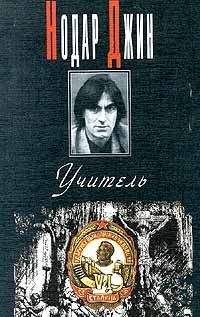Нодар Джин - Повесть о глупости и суете
Необычно был и одет — в черный сюртук без лацканов, напоминавший одновременно толстовку и хасидский кафтан. Это, во-первых, придавало мужику сразу и старомодный, и авангардный вид, а во-вторых, не позволяло определить ни его национальность, ни профессию.
Бородач держал у рта мегафон канареечного цвета и ждал «внимания».
— Дамы и господа! — повторил он. — У меня нет денег, и я хочу попросить их у вас. Дайте, если можете… Я бы вам сыграл взамен на флейте, если б у меня была флейта и я умел на ней играть… Но я не умею… Да и флейты нету… Могу зато прочесть своё стихотворение… Прочесть?
Стояла тишина, подчеркнутая непричастным гулом мотора. Все вокруг думали, наверное, о том же, о чём думал я — об очевидном: этот человек общается с людьми редко, только когда нуждается в деньгах, а основное время коротает в раю. Говорил он, кстати, как говорила бы античная статуя — чинно. Ясно было и то, что мир ему не нравился, и на месте Господа он либо никогда бы его не сотворял, либо, сотворив, не стал бы, как Тот, хлопать в ладоши…
Если бы не мегафон в правой руке, он походил бы на невыспавшегося библейского пророка — и тогда у него не было бы и шанса на получение подачки. Впрочем, поскольку не выглядел он и жертвой, никто не собирался лезть за бумажником, потому что люди не любят попрошаек, рассчитывающих не на сострадание, а на справедливость.
— Читайте же! — разрешила Джессика после паузы.
Мужик перенёс мегафон в левую руку, поскольку ему, видимо, нравилось жестикулировать правой. Ни один из жестов, однако, ничего не объяснил, и к концу стихотворения никто не понимал как быть: радоваться существованию или нет.
Что касается меня, я — помимо прочего — подумал о том, что если бы этот поэт разговаривал с собой не в мегафон, а, подобно мне, беззвучно, — то окружающие чувствовали бы себя комфортабельней.
Оказывается, однажды, когда день двигался осторожно, как переваливается гусеница через острие бритвы, ему показалось, будто человек — единственное создание, живущее вопреки разуму. Каждый из нас уделяет жизни всё своё время, но настоящая беда в другом: жизнь течёт наоборот, и смерть должна располагаться в начале. Если жить согласно разуму, то сперва следует не родиться, а умереть. Покончив со смертью и выбравшись из гроба, человек должен вступать в старость и жить на пенсии, пока не станет достаточно молодым, чтобы трудиться — за что вместе с подарком от сослуживцев получит в награду юность: хмельные годы любви и познания. После юности дела пойдут ещё лучше: наступит детство, когда все вещи в мире являются тем, чем являются — игрушками. Потом человек становится всё меньше и меньше, превратившись, наконец, в зародыш и провалившись в тепло материнской утробы, где, собственно, только и пристало задаваться вопросом о том, стоит ли жить, но где зародыш об этом не думает, ибо на протяжении всех девяти месяцев предвкушает самое последнее и чудесное из превращений — в игривую улыбку на устах родителей.
13. Большинство людей не заслуживает оргазма
— Что это? — спросила меня Джессика. — Он издевается?
— Нет, рассуждает о жизни, а гусеница переваливается через бритву… И хочет за это деньги. Не она, — он.
— А это справедливо?
— Жизнь — единственное, о чем можно сказать что угодно.
— Я не об этом: платить ему или нет?
— У меня денег нету, — отрезал я.
— Я тоже не дам! А что бы сделала Фонда?
— То же самое, что сделала при взлёте, когда штрафовали меня: заставила бы выложиться соседа справа.
Она обернулась на соседа справа и вскрикнула:
— Ой! Стоун умирает!
Мэлвин Стоун, действительно, смотрелся плохо — совершенно бледный, он икал и жадно дышал.
— Вы прислушайтесь! — шепнула Джессика и схватила меня за руку. — Слышите? Он хрипит!
— Это не он, — сказал я. — Это его сосед. Просто храпит. Но дело не в этом: Стоун, действительно, плох…
— Мэлвин! — окликнула его Джессика.
— Звать надо Габриелу! — всполошился я. — Нажмите эту кнопку!
Из второго салона прибежала ещё и блондинка с утиным носом.
— Боже мой! Это мистер Стоун! — бросила Габриела коллеге и распустила на шее Мэлвина галстук цвета датского шоколада. — Кто же так прыгает в таком возрасте!
— Очень низкий пульс, — шепнула ей блондинка с утиным носом.
— Остановите этого кретина! — кивнула Джессика на поэта.
— Ни в коем случае! — воскликнула Габриела. — Пусть отвлекает пассажиров! Нельзя допускать паники!
— Думайте не о панике, а о Стоуне! — бросила ей Джессика.
— Не беспокойтесь, мисс Фонда, я позову сейчас Бертинелли!
— Больному нужен не Бертинелли, а лекарство! — сказал я. — Вот, возьмите нитроглицерин… И суньте ему под язык!
— Ни в коем случае! — ужаснулась Габриела и приложила ладонь к шраму на лбу Мэлвина. — Мистер Стоун!
Не слышал. По крайне мере, не отзывался.
— Нужен врач! — сказала блондинка. — Я сейчас объявлю.
— Ни в коем случае! — возразила Габриела. — Не надо паники… Поговорю сперва с капитаном.
— При чём тут капитан? — возмутился я. — Ему нужен нитроглицерин! Это спазм! А если нужен врач, он как раз тут есть. Объявите: «Доктор Краснер!»
— В каком салоне? — спросила блондинка.
— Не знаю, видел при посадке… Хороший врач…
— По сердцу?
— Гинеколог, но уже психиатр… Из Ялты… Это город такой…
— Знаю! — обрадовалась блондинка. — Конференция!
— Конференция? — опешила Джессика.
— Да, в сорок пятом: Рузвельт, Черчилль и Сталин! — засияла блондинка. — Я училась на историческом!
— Очень похвально, но при чём тут Ялта? — воскликнула Джессика. — Тут, извините, человек умирает!
— Очень даже при чём! — объяснила Габриела. — Ялта — это где? Не в Америке?
— В России, — ответила блондинка. — Правильно?
— Теперь уже непонятно, — сказал я. — То ли там, то ли на Украине. Позовите сперва Краснера!
— Не имею права, — вставила Габриела. — Ялта — это непонятно где, а врач нужен американский… Если уж нету никого с американской лицензией — только тогда…
— Вы, извините, не рехнулись ли? — полюбопытствовал я. — Человек отдаёт концы, а вы о лицензии! Зовите Краснера! А что касается лицензии, она у него есть, он сдал все экзамены… Особенно английский… И работает в Балтиморе…
— В Балтиморе? — обрадовалась Джессика. — Это же моя родина! Там очень хорошие врачи!
— В Балтиморе? — удивилась блондинка. — Разве вы родились не в Голливуде, мисс Фонда?
— И в Голливуде тоже, — смутилась Джессика.
Я поспешил на помощь сразу и ей, и Стоуну:
— Габриела! Зовите Краснера!
— Я позову! — вскинулась блондинка и убежала.
Стоун по-прежнему дышал тяжело.
Габриела сидела перед ним на корточках и держала в руках его левую кисть.
Мужчина рядом с ним не просыпался и, откинувшись назад, громко посапывал.
Никто вокруг не отрывал глаз от рыжего поэта, который смотрелся уже не в фокусе и говорил в мегафон о том, что секс более необходим, чем вера в бога, и что не крест, а оргазм воплощает надежду на спасение, аминь, хотя большинство людей не заслуживает настоящего оргазма, почему они и умирают, не постигнув смысла бытия.
Появился Краснер. Не заметив меня, пригнулся к Стоуну и заглянул тому в глаза. Шепнул что-то блондинке, и та убежала.
— Доктор, — шепнула и Джессика, — это опасно?
— Это, наверное, сердце, — заключил Краснер незнакомым мне голосом. Обновленным показалось даже его удобренное кремом лицо провинциального американского еврея, живущего воспоминаниями о не-своём прошлом и ожиданием не-своего будущего.
— Он вам друг, мисс Фонда? — добавил Краснер.
Стюардесса ответила, что пассажир прыгал — и ему стало дурно.
Гена Краснер разговаривал по-английски без акцента.
— Вы, доктор, не кардиолог ведь? — спросила Габриела.
— Начинал с акушерства, потом — психиатрия, потом — общее врачевание. А сейчас — смешно — даже философия…
— Философия? — ужаснулась Габриела.
— Представьте! — улыбнулся Краснер и забыл о Стоуне. — Кстати, лечу в Москву как раз на философский конгресс…
— Занимаетесь, значит, серьёзно, — заключила Джессика.
— Я называю это хобби… Тема, правда, интересная: проблема ролей и перевоплощения… Вам, как актрисе…
— Познакомить вас с философом? — перебила его Джессика.
— Правда? — оживился Краснер. — С кем же?
Я отвернулся в окно, а когда Джессика назвала ему моё имя, плотнее приник к стеклу и решил не оборачиваться, если окликнут.
Выручила Габриела:
— Вот, наконец, и капитан!
Капитан принёс аппарат для измерения давления, которое, по словам Гены, оказалось у Стоуна критическим. Сказал ещё, что больному нужен покой.
Капитан предложил поднять того наверх, в Посольский салон, который, хоть и захламлен, зато пуст. Больного можно, дескать, уложить там на диван.