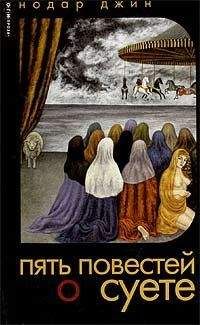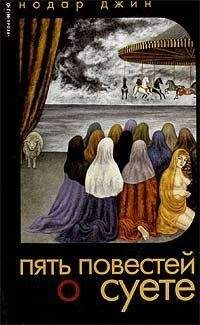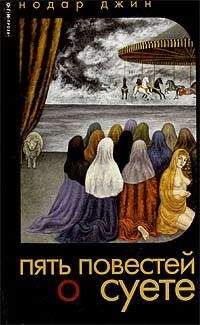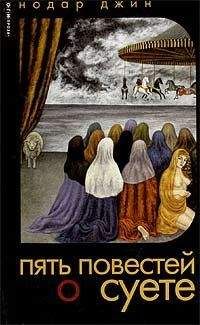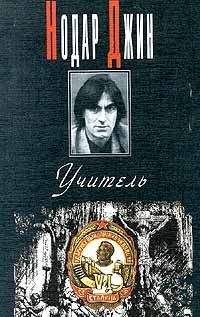Нодар Джин - Повесть о глупости и суете
Потом мне почудилось, будто меня разбудил голос деда, каббалиста Меира, который — когда я рассказал ему этот сон, буркнул: «Если увидишь эту же вещь ещё раз, подними себя над собой, разбей себя о колено и начни жить сначала!»
43. В мире утверждаются аллергия к будущему и великая лень
Разбудил меня рыжий поэт, который попросил у пассажиров Первого салона деньги, но не получил их. Он растормошил меня и крикнул в ухо, что надо спешить на посадку: Москва начала принимать.
— А что, — вернулся я в жизнь, — прошёл всё-таки путч или не прошёл?
— А хрен его знает! — сморщился поэт. — Главное — принимают!
Я сказал ему, что в Москве мне в общем делать нечего: посижу лучше в баре.
Тогда он предложил заработать при этом деньги, поскольку у меня есть место в Первом классе. С путчем произошло что-то крайне интересное, объяснил он: в аэропорт нагрянули заспешившие в Москву люди, а среди них — богатая американка, предлагающая четыре куска за кресло в Первом салоне.
Я кивнул головой, протянул ему мой билет и обещал половину, если продажей билета займётся вместо меня он.
Через четверть часа поэт принёс мне две с половиной тысячи долларов, сказал, что ему удалось содрать с американки лишнюю тысячу и благословил меня на всю оставшуюся жизнь. Потом принёс фужер коньяка и предложил чокнуться.
— За что? — спросил я.
— Сейчас скажу! — рассмеялся он, выпил свой фужер и, вытащив из сумки мегафон канареечного цвета, приложил его ко рту.
Мегафон объявил, что зачитает сейчас новое стихотворение, которое не успело ещё найти ритма…
Каждая голова напичкана противозачаточными средствами, а потому в мире утверждаются аллергия к будущему и великая лень. Но этого не достаточно: праздник придёт когда мы научимся не помнить и прошлого, которое отравляет нас надеждами и страхами.
И будущее, и прошлое заставляют человека кем-то стать.
Стать кем-то другим или даже остаться самим собой, но — лучше, чем ты есть. То есть — стать опять же кем-то другим. А это очень неправильно: надо стремиться к тому, чтобы стать никем, надо перестать знать что знаешь и делать что умеешь. Но это так же невозможно, как начать жизнь сначала.
Остаётся только помнить, что никто из нас не создан ради себя. И даже человечество создано не ради себя.
И даже мир создан не ради себя.
Всё существует ради простого и глупого.
Ради Извечного Существования.
После короткой паузы поэт вернул мегафон в сумку и снова рассмеялся. Потом выпил и мой фужер, взглянул на часы и сказал, что пора расставаться. И ещё раз благословил меня за деньги.
А в голове моей, как щетина на лице, неудержимо прорастала главная мысль, рядом с которой всё остальное казалось ничтожным.
Вынув из кармана свои деньги, я протянул ему и их.
Поэт отмахнулся и сказал, что столько он не успеет потратить.
— Возьми! — настоял я.
— Хорошо, — согласился он, — но тогда я верну ей тысячу: она рассердилась, когда я потребовал у неё пять.
— Кто? — не сообразил я, прислушиваясь к шуму, которым сопровождалось прорастание в моей голове главной мысли.
— Ну она, Фонда.
— Ещё раз! — вздрогнул я.
— Джейн Фонда! Твоё место купила артистка Джейн Фонда.
Я задумался, но ничего не сказал. Потом спохватился и передал ещё поэту кулёк с пузырьками Баха:
— Возьми и это, может пригодиться.
— А что там?
— Капли против всего: от отчаяния до оптимизма…
— Мне тоже уже не нужно, — сказал он.
— А почему не нужно тебе?
— Я подумываю о более сильном средстве, — ухмыльнулся он и вынул из сумки книгу. — Вот: «Последний исход.»
— «Последний?»
— Последний! — и дочитал заголовок до конца. — «Руководство к самоубийству: сто лучших способов».
— Не может быть! — поразился я тому, что жизнь повторяет мысль раболепно. — Сто лучших? И какой из лучших всё-таки лучше?
— Каждому своё! — ответил он. — Я предпочитаю самоубийство в утробе, но про это тут ничего не написано…
— Всю прочёл? — спросил я.
— Возьми! — и, протянув мне книгу, он ушёл.
44. Выступила другая мечта — помочиться
Когда поэт почти скрылся из виду, мне показалось, будто я снова вижу себя, — теперь уже от меня удаляющегося. С сумкой через плечо, а в ней — мегафон канареечного цвета.
Под шум прораставшей в голове мысли я стал листать книгу, с каждой новой страницей убеждаясь в том, что, действительно, безопасней всего кончать с собой в утробе: всё остальное вдобавок хлопотней. Из двенадцати финальных инструкций для вежливых самоубийц внимание привлекла последняя: «Оповестите о задуманном близких».
Я ринулся к телефонной будке и позвонил домой. Не было ни жены, ни дочери, ни матери. Из Америки мне ответил мой собственный голос: «Меня дома нету, но зато у вас есть короткое время сказать любые слова».
После сигнала началась далёкая тишина. Записывающая.
Сказать мне себе оказалось нечего.
Стало даже смешно, что люди оставляют друг другу какие-то слова, но стоило мне повесить трубку и прервать свою с собою же связь — прорастание главной мысли прекратилось. Выступила другая мечта — помочиться.
Я поспешил в сортир, расстегнул ширинку, пристроился к незанятой вазе и заметил на днище большую нарисованную муху. Все вокруг целились своими пенисами в насекомое на стенке, но мне показалось более драматичным угодить струёй в центральную из узких хромированных дырок.
Ещё не отмочившись, я ощутил, что эта случайная мысль помочиться начала сворачиваться, уступая место прежней, главной, мечте, которая теперь была уже так близко, что спастись от неё становилось невозможно.
Я сдвинул голову вправо и увидел вялый, как залежавшаяся морковь, половой член, приданный полицейскому. Потом свернул взгляд правее и остановил его на незастёгнутой кобуре с пистолетом.
Полицейский тоже целился своей морковью в муху, но когда она захлебнулась, он её, видимо, пожалел и отвёл взгляд к потолку. Именно поэтому лица его я и не видел. Только член. Поэтому и он не разгадал моего плана.
Не домочившись, я вздёрнул на штанах змейку, вырвал у него из кобуры пистолет, метнулся в кабину, защёлкнул дверь и застрелился. Выстрелил, кстати, не в голову, как прошёлся слух, а в сердце. И поступил так не по философским, а чисто эстетическим мотивам. Не потому, что якобы сердцем дорожил меньше, а потому, что вид разбрызганных по кафелю мозгов отвратителен даже в воображении.
45. Эпилог
Ещё о лживых слухах.
Эту повесть я писал с тем, чтобы никто впредь не сомневался, что я покончил с собой исключительно из личных соображений. Отнюдь не из подражания писателю Хемингуэю. Или философу Шопенгауэру.
Хемингуэй застрелился не из пистолета — из ружья. А Шопенгауэр и вовсе не был самоубийцей. Просто пессимистом, к каковым я себя не относил. Наоборот, я прожил свою жизнь в предвосхищении лоторейного выигрыша. Причём, жил драматично: если бы и выиграл, то выиграл бы только деньги.
Всё остальное я имел. И научился обретать это сам. Правда, не без помощи романов. Они как раз и развивали во мне лживость. Больше того: когда существование представилось мне бессмысленным, я изловчился подчинить его законам литературного вымысла.
Поскольку же книги попадались мне разного жанра, — жизнь моя оказалась многогранной.
Именно и только поэтому.
И ни в коей мере по той, дескать, причине, что я испытывал необъяснимый страх перед цельностью натуры или строгой сюжетностью судьбы. Напротив, — стремился к тому. А если и получилось, что жил раздробленно, — то одною стороной, то другою, то третьей, — делал это не из презрения к гармонии, а из отсутствия достатка, который позволил бы мне содержать в себе всех составлявших меня людей одновременно.
Правда, этой раздробленности я и обязан тем, что кое-кто во мне выжил. И выжил благодаря пониманию, что мыслить и существовать — очень разные вещи. Спаривать их недопустимо.