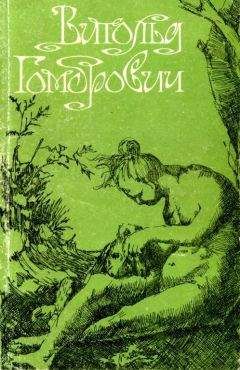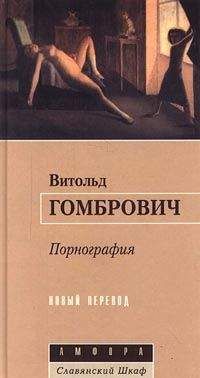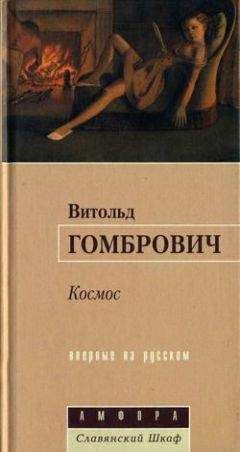Витольд Гомбрович - Девственность и другие рассказы. Порнография. Страницы дневника
— В морду получил! — закричали ребята. — Эй, Чарнецкий, да у тебя чести нет, дай ему сдачи, дай ему в морду. — «Как же я могу, — отвечал я, — если я слабее его. Если я дам ему сдачи, то получу еще раз и вдвойне осрамлюсь». — Тогда они все набросились на меня и избили, не скупясь при этом на издевательства и злые насмешки.
Любовь! — что за колдовская, непостижимая бессмыслица — ущипнуть, ухватить и даже поймать в объятия — сколько же в этом всего! О, о! Сегодня я знаю, в чем здесь дело, я вижу здесь тайное родство с войной, потому что и на войне главное — ущипнуть, ухватить или поймать в объятия, но тогда я еще не был жизненным банкротом, совсем напротив: меня переполняли благие намерения. Любить? Смело могу сказать, что тогда я окунулся в любовь, потому что таким образом хотел пробить стену тайны… и воодушевленно и самоотверженно сносил все причуды этого самого удивительного из чувств в надежде, что я все-таки когда-нибудь пойму, в чем здесь дело. — «Я хочу тебя!» — говорил я возлюбленной. А она отделывалась от меня общими фразами. — «На что ты годишься? — загадочно говорила она, разглядывая мою физиономию. — Зализанный франтик, маменькин сынок!
Я вздрогнул: маменькин сынок! Что она имела в виду? Может о чем-то таком догадывалась… ведь я-то постепенно догадался. Я уже понимал, что если мой отец был чистокровным до кончиков ногтей, то и мать — тоже была чистокровной, но в другом смысле, в смысле — семитском. Что заставило отца, этого обедневшего аристократа, жениться на дочери богатого банкира, на моей матери? Я уже понимал тревогу его взгляда, изучавшего мои черты, и ночные вылазки этого человека, который, губя себя в постылом сожительстве с матерью, стремился, направляемый высшим велением вида, передать свою породу другим, более подходящим чреслам. А понимал ли? Честно говоря — нет, и здесь вновь вставала волшебная стена тайны. Я знал это теоретически, но, будучи преданным сыном, не ощущал в себе отвращения ни к матери, ни к отцу. Я и сегодня, не зная теории, не могу разобраться, понять, какой масти должна быть крыса, рожденная от черного самца и белой самки, и лишь допускаю, что мой случай — исключительный, беспрецедентный, а именно: враждебные породы родителей, будучи абсолютно одинаковыми по силе, нейтрализовались во мне, да так, что сделали меня крысой без масти, без цвета! Нейтральная крыса! Вот моя судьба, вот моя тайна, вот почему мне всегда не везло, и, принимая участие во всем, я ни в чем не мог принять участия. Вот почему меня охватило беспокойство при словах „маменькин сынок“ — и беспокойство было тем больше, что слова эти сопровождались взглядом из под полуопущенных век — то, на чем я уже пару раз обжегся.
„Мужчина, — говорила она, щуря прекрасные глаза, — мужчина должен быть дерзким!“
„Конечно, — отвечал я, — я могу быть дерзким.“ Иногда у нее разыгрывалось воображение, и она приказывала мне прыгать через канавы, поднимать тяжести. — „Растопчите эту клумбу, но не сейчас, а когда сторож будет на месте. Поломайте кусты, бросьте в воду шляпу этого господина!“ Я остерегался впадать в резонерство, памятуя об инциденте на школьном дворе, а впрочем, когда я спрашивал, какова причина и каков повод, она говорила, что сама не знает, и что представляет собой загадку, стихию. — „Я — сфинкс, — говорила она, — тайна…“ Когда у меня не получалось, она огорчалась, а когда удавалось, то радовалась, как ребенок, и в награду позволяла поцеловать себя в ушко. Но ни разу ее не посетило желание ответить на мое „Я хочу тебя“. — „В вас есть что-то такое, — говорила она смущенно, — сама не знаю что, но какой-то привкус.“ Я хорошо понимал, что это значит.
Все это, надо признаться, было удивительно очаровательным, удивительно живописным, да, да, именно живописным, но в то же время — удивительно неубедительным. Однако я не терял присутствия духа. Много читал, особенно поэзии, и насколько мог, усваивал язык тайны. Помню школьное сочинение „Поляк и другие народы“, где я писал: „Разумеется, не стоит даже говорить о том, что поляки превосходят негров или азиатов с их неприятной кожей. Но даже по отношению к европейским народам превосходство поляков неоспоримо. Немцы — тяжелы, грубы, с плоскостопием, французы — низкорослы, мелки и развратны, русские — волосаты, итальянцы — bel canto. Какое же блаженство — быть поляком, и ничего удивительного, что все нам завидуют и хотят стереть нас с лица земли. Лишь поляк не вызывает в нас отвращения.“ Хоть и написал я так, но уверен не был, однако чувствовал, что это — язык тайны, и именно наивность моих утверждений была мне мила.
3Политический горизонт становился темней, а моя возлюбленная выказывала странное возбуждение. Ах, эти долгие, эти фантастические сентябрьские дни! Они пахли, как я вычитал в книге, вереском и мятой, были воздушными, горькими, жаркими и нереальными. На улицах — толпы, пение и шествия, страх, буйство и экзальтация, пронизанные ритмическим шагом проходящих воинских подразделений. Здесь — ветеран-повстанец, слезы и благословение. Там — мобилизация, прощание молодоженов. А там — флаги, говор, взрывы энтузиазма, национальный гимн. Клятвы, признания, слезы, плакаты, негодование, благородство и ненависть. Никогда прежде, если верить художникам, женщины не были так очаровательны. Моя возлюбленная перестала обращать на меня внимание, ее взгляд потемнел, стал более глубоким и выразительным, но смотрела она лишь на военных. — Я все решал, что мне делать? Мир загадки вдруг как-то странно вырос, и я должен был вдвойне быть начеку.
Ликуя вместе с другими, я давал волю своему патриотизму, и даже несколько раз участвовал в импровизированных расправах над шпионами. Но я чувствовал, что это лишь паллиативы. Во взгляде моей Ядвиси было что-то такое, от чего я как можно скорее вступил в армию, где получил назначение в уланы. Я сразу же понял, что выбрал верный путь, когда, стоя на военно-врачебной комиссии нагишом и с бумажкой в руках перед шестью чиновниками и двумя врачами, приказавшими мне задрать ногу и показать пятку, я встретил тот же самый пристальный, серьезный, слегка задумчивый и холодно оценивающий взгляд Ядвиси, и лишь удивился, что тогда, в парке, предъявляя мне какие-то претензии, она не обратила внимания на мою пятку.
Наконец, я стал солдатом, уланом и пел вместе со всеми: „Уланы, уланы, расписные дети, вы сердца девчонок ловите как в сети“. И действительно, хоть все мы уже давно не были детьми, но когда текли через город лавиной, напевая эту песенку, склоненные над гривами коней, с пиками и козырьками киверов, то предивно восхитительное выражение проступало на женских губах, и я чувствовал, что на этот раз сердца бьются также и для меня… Почему — не знаю, может потому, что я все еще был графом Стефаном Чарнецким, по матери Гольдвассер, да к тому же в сапогах и с малиновыми петлицами на воротнике. Моя мать, заклиная меня, чтобы я никому не давал спуску, благословила меня на битву святой реликвией в присутствии всех слуг, из которых больше остальных была взволнована горничная. — „Режь, жги, убивай, — вдохновенно говорила мать. — Никому не давай спуску! Ты орудие гнева Иеговы, вернее, я хотела сказать, Господа Бога. Ты — орудие гнева, отвращения, презрения, ненависти. Истребить всех развратников, которые брезгуют, хотя перед алтарем клялись не брезговать!“ А отец, горячий патриот, плакал в сторонке. — Сын мой, — говорил он, — лишь кровью ты можешь смыть пятно своего происхождения. Перед боем всегда думай обо мне, и как огня остерегайся думать о своей матери, иначе — пропадешь. Думай обо мне и никому ничего не прощай! Не прощай! Всех до одного истреби этих подлецов, чтобы сгинули все другие породы, а чтоб осталась только моя порода!» — А возлюбленная моя первый раз позволила поцеловать себя в губы; это было в парке, под звуки квартета из кафе, в один из вечеров, пахнущих вереском и мятой — просто, без предисловий, без каких бы то ни было объяснений дала себя поцеловать в губы. Пронзительно прекрасные губы! Можно расплакаться! Сегодня я понимаю, что речь шла о мясорубке, что из-за того, что мы, мужчины, предприняли резню, им, женщинам, пришлось приступить к делу со своей стороны, но тогда я еще не был банкротом, и мысль эта, хоть я ее и осознавал, была во мне лишь чистой философией и не сдерживала слез, навернувшихся на глаза.
«Служба, служба, служба, что же ты за дама?» Простите, что снова обращусь к тайне, которая так меня донимает. Солдат на фронте копошится в слякоти и в мясе, а болезни, лишаи и грязь измываются над ним, и ко всему, когда брюхо разрывает снарядом, часто кишки вылезают наружу… Ну так как? Почему же солдат — это ласточка, а не лягушка? Почему профессия солдата прекрасна и вызывает повсеместное восхищение? Нет, плохо сказал, не прекрасна, а живописна, в высшей степени живописна. Одно то, что я красуюсь — придавало мне силы в борьбе с противным предателем солдатской души, со страхом — и я был почти счастливым, как будто находился по ту сторону непробиваемой стены. И каждый раз, когда мне удавалось метко выстрелить из винтовки, я чувствовал, что зависаю на непостижимой женской улыбке и на тактах солдатской песни, и даже более того: после массы усилий мне удалось добиться любви моего коня — этой гордости улана — который меня раньше лишь кусал и лягал.