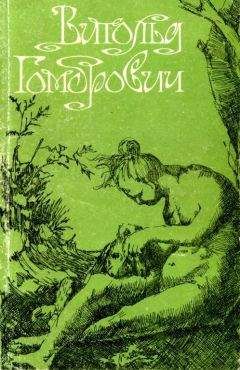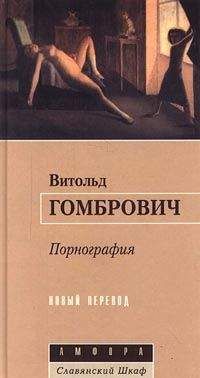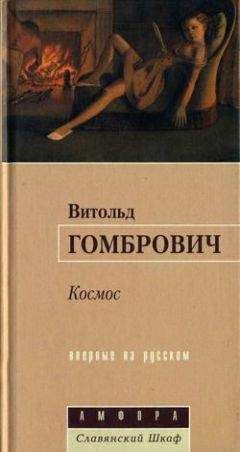Витольд Гомбрович - Девственность и другие рассказы. Порнография. Страницы дневника
Я никак не мог взять в толк, чем же это лысина матери хуже лысины отца? А зубы у матери были даже лучше, был у нее один зуб с золотой пломбой… И почему мать со своей стороны не брезговала отцом, а совсем наоборот — любила гладить его, когда в доме гости, ибо только тогда отец не вздрагивал. Моя мать была исполнена величия. Как сейчас, вижу ее, то организующую благотворительный базар, то на званом обеде, или же совершающую вместе со слугами вечернюю молитву в специально для нее устроенной часовенке.
Набожность моей матери не имела равных — это было даже не желание, это было вожделение поста, молитвы и добрых дел. В назначенный час мы, то есть, я, лакей, повар, горничная и сторож, вставали в черноте обитой крепом часовни. По прочтении молитв начиналась проповедь — Грех! Мерзость! — патетически говорила мать, а ее подбородок колыхался и трясся, как желток в яйце. Что, может, я говорю без должного уважения к памяти дорогих мне теней? Так это жизнь меня обучила такому языку, языку тайны… но не будем забегать вперед.
Иногда мать призывала меня, повара, лакея, сторожа и горничную в неурочные часы. — «Молись, бедное дитя, о душе этого изверга — твоего отца, молитесь и вы о душе продавшегося дьяволу господина!» Не раз до четырех или пяти утра мы пели вслед за нею литанию, пока не открывались двери и не появлялся облаченный во фрак или смокинг отец, и на его лице проступало выражение активнейшего неприятия. — «На колени!» — кричала тогда расколыхавшаяся и взволнованная мать, подходила к нему, и указывала пальцем на лик Христа. — «Марш в постели, спать!» — по-барски приказывал лакеям отец. — «Это мои слуги!» — отвечала мать, и отец быстро выходил, сопровождаемый нашими молитвенными причитаниями перед алтарем.
Что все это значило и почему мать говорила «его грязные поступки», почему ее коробили поступки отца, а отца коробила сама мать? Невинный детский ум терялся в этих тайниках. — «Развратник, — говорила мать. — Помните у меня — никакого прощения! Кто, узрев грех, не возопит от отвращения, тот пусть привяжет себе на шею мельничный жернов. Как же можно так брезговать, пренебрегать и ненавидеть? Присягнул, а теперь брезгует. Он присягал не брезговать! Адский пламень! Он мною брезгует, ну и я им — тоже брезгую! Придет Судный День! На том свете увидим, кто из нас лучше. Нос! — Дух! У духа нет ни носа, ни лысины, а беззаветная вера откроет врата райских наслаждений. Придет тот час, когда отец твой, корчась в муках, будет молить меня, сидящую одесную Иеговы, в смысле, я хотела сказать — Господа Бога, чтобы я дала полизать ему мокрый палец. Тогда посмотрим, как он будет брезговать!» — Впрочем, отец тоже был набожным и регулярно посещал костел, но нашу домовую часовню — никогда. Бывало, безупречный и изысканный, он говорил с этим своим аристократическим прищуром: «Верь мне, моя дорогая, это нетактично с твоей стороны; когда я вижу тебя с твоим носом и ушами, с твоими губами перед алтарем, я уверен, что Христу от этого не по себе. Разумеется, я не отрицаю за тобой права на благочестие, даже более того, — добавлял он, — религия прекрасно относится к неофитам, но уж ничего не поделаешь. Природа неумолима, вспомни-ка лучше французскую пословицу: „Dieu pardonnera, les hommes oublieront, mais le nez restera“.
А я рос. Иногда отец брал меня к себе на колени и долго и обеспокоенно изучал мою физиономию. — „Нос как и был — мой, — слышал я его шепот. — Слава Богу! Но вот глаза… и уши… бедное дитя! — и его благородные черты искажала боль. — Ужасно будет мучиться, когда он все поймет, и я не удивлюсь, если тогда у него в душе произойдет нечто вроде внутреннего погрома.“ — Что „поймет“ и о каком погроме он говорил? И вообще, какой масти должна быть крыса, рожденная от черного самца и белой самки? Пятнистая? Или может, когда в борьбу друг с другом вступают цвета абсолютно равные по силе, то в результате получается крыса без цвета, без окраски… но опять, вижу, что нетерпеливыми отступлениями я забегаю вперед.
2В школе я был успевающим и прилежным учеником, однако всеобщей симпатией не пользовался. Помню, когда я, услужливый, усердный, полный благих намерений, с тем рвением, которое всегда отличало мою натуру, впервые предстал перед директором, директор ласково взял меня за подбородок. Я считал, что чем лучше буду себя вести, тем большее расположение учителей и соучеников заслужу. Однако мои добрые начинания рассыпались в прах, натолкнувшись на непробиваемую стену тайны. Какой тайны? О! Я не знал, да и теперь, собственно, не знаю — я только чувствовал, что со всех сторон я окружен чуждой мне, враждебной, но столь очаровательной тайной, которую я не могу постичь. Ну разве не очарователен и не загадочен стишок „Раз, два, три, все евреи — псы, а поляки — молодцы, золотые птицы, а водить выходишь ты“, который мы с друзьями использовали как считалку во время игр на школьном дворе? Я чувствовал, что стишок очаровательный, и декламировал его проникновенно, с наслаждением, но почему он очаровательный — этого я не мог понять, и даже более того, мне казалось, что в игре я абсолютно лишний, что мне надо держаться в сторонке и только наблюдать за игрой. Я брал свое прилежанием и вежливостью, но ответом на мои прилежание и вежливость была антипатия не только учеников, но — что еще более удивительно и несправедливо — также и учителей.
Еще я помню:
Кто идет? Поляк — мальчишка смелый.
Твой пароль? Орел наш польский белый.
Я вспоминаю своего незабвенного преподавателя родной истории и литературы — тихий, скорее вялый старикашка, никогда не повышавший голоса. — „Господа, — говорил он, кашляя в большой фуляровый платок или ковыряя пальцем в ухе, — какой еще народ был Мессией среди народов? Оплотом христианства? У кого еще был князь Юзеф Понятовский? Что же касается количества гениев, особенно предтеч, то их у нас столько же, сколько во всей Европе“. И неожиданно начинал: „Данте?“ — „Я знаю, пан преподаватель, — тут же срывался я, — Красинский!“ — „Мольер?“ — „Фредро!“ — „Ньютон?“ — „Коперник!“ — „Бетховен?“ — „Шопен!“ — „Бах?“ — „Монюшко!“ — „Сами видите, господа, — заключал он. — А язык наш во сто крат богаче французского, хоть тот и считается самым совершенным. Что француз? Самое большее — petite, petiot, très petite. А у нас какое богатство: малый, маленький, малюсенький, масенький, малехонький, махонький и так далее.“ Несмотря на то, что отвечал я лучше и быстрее всех, он меня не любил, почему? — этого я не знал, но как-то раз, покашливая, он сказал странным, многозначительным и доверительным тоном: „Господа, поляки всегда были ленивыми, поскольку лень всегда идет рука об руку с большими способностями. Поляки — способные, но — шельмы — ленивые. Поляки — удивительно симпатичный народ“. — С тех пор моя страсть к учебе слегка поугасла, но и этим я не снискал себе расположения моего педагога, хоть он и питал слабость к ленивым сорванцам.
Бывало, прищурит глаз, и тогда весь класс делал ушки топориком. — Ну? — говорил он. — Что? Весна? По жилам струится, тянет во лесок, манит на лужок? — Поляк всегда был такой, как говорится — шалун и строптивец. На одном месте не усидит, хо, хо… вот почему шведки, датчанки, француженки и немки нас обожают, но мы предпочитаем наших полек, ибо их красота известна всему свету.» Эти и подобные этим высказывания так на меня подействовали, что я влюбился — в молодую барышню, с которой мы учили уроки на одной скамейке в Лазенковском парке. Я долго не знал, как мне начать, а когда в конце спросил: «Вы разрешите?»… она даже не ответила. Однако, на следующий день, посоветовавшись с друзьями, я собрался с духом и ущипнул ее, а она зажмурилась и захихикала…
Удалось — я вернулся победителем, радостный и уверенный в себе, однако же необычайно встревоженный непонятным мне хихиканьем и прищуром. — «Знаете что? — сказал я на школьном дворе, — я — строптивец, проказник, поляк — мальчишка смелый, жаль, что вы не видели меня вчера в парке, вы бы там такое увидали»… И все рассказал. — «Дурак!» — сказали они, но впервые слушали меня с интересом. И тогда один сказал: — «Лягушка! — Где? Что? Бей лягушку!» — Все бросились, и я за ними. Мы начали пороть ее тоненькими прутиками, пока она не издохла. Возбужденный и гордый, что ребята допустили меня к самым избранным своим забавам, и видя в этом начало новой эры в жизни, я крикнул: «Знаете что! Еще есть ласточка. Ласточка залетела в класс и бьется об окна — подождите только…» Я принес ласточку, а чтобы она не могла выпорхнуть, надломил ей крыло и вновь — за прутик. Но все окружили ее. — «Бедняжечка, — говорили, — бедная маленькая пташка, дайте ей хлеба и молока». А когда заметили, что я замахиваюсь прутиком, то коллега Павельский так сощурился, что аж скулы выступили, и очень больно ударил меня по лицу.
— В морду получил! — закричали ребята. — Эй, Чарнецкий, да у тебя чести нет, дай ему сдачи, дай ему в морду. — «Как же я могу, — отвечал я, — если я слабее его. Если я дам ему сдачи, то получу еще раз и вдвойне осрамлюсь». — Тогда они все набросились на меня и избили, не скупясь при этом на издевательства и злые насмешки.