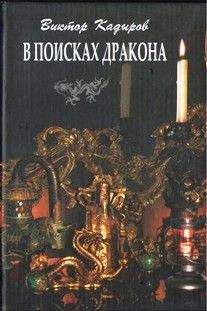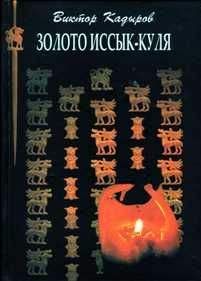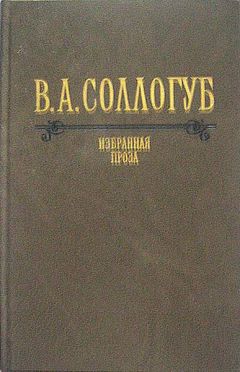Юсуф Шаруни - Современный египетский рассказ
В бакалее отец занес надо мной нож, чтобы ударить меня:
— Что же ты делаешь, сукин сын?! Все пописываешь свои любовные песенки?! Неужели я для этого воспитывал тебя! Я-то хотел, чтобы ты стал шейхом ордена, а ты становишься шейхом порока…
Вмешиваются покупатели. Один из них говорит:
— Оставь его, муаллим[9], прошу тебя. Все дети таковы…
— Дайте мне научить его уму-разуму! Негодяй!.. Даже в этом ты не можешь преуспеть!..
Несколько рук загородило меня. Кто-то выхватил нож из рук отца. Он ударил меня по лицу, свалилось несколько кусков мыла, я хотел запустить один из них ему в голову. Все это происходило уже не в первый раз, и я решил, что этот будет последним.
Но последним он не стал. Какое-то время я искал другую работу. Наконец один мой приятель привел меня в транспортную компанию. Я стоял перед чиновником, принимавшим заявление, и мне вспомнилось, как я стоял перед секретарем спортивной школы. Этому тоже не понравилась моя полнота, хотя к тому времени она уже изрядно поубавилась. Он сказал: «Наши машины набиты пассажирами, я бы даже сказал — набиты до отказа. У нас нет недостатка в таких, как ты. Ты не протиснешься среди пассажиров. Нам нужны кондукторы тонкие, как тростинки. А ты?.. Ты больше похож на слона или на дельфина. Ха-ха-ха!» Я поддержал его смех, дабы не казаться толстым и неуклюжим. Он заговорил снова:
— Наша компания любит давку. Чем больше народу набьется в автобус, тем богаче выручка, и тогда кондукторы получают премию. Восемь пиастров[10], если доход составит восемь фунтов, и четыре пиастра за каждый фунт сверх того. А с твоей фигурой премии тебе не видать.
Я взмолился:
— Даю слово, я ужмусь.
— Зачем ты так много ешь? Экономь, дружок, для других. Ха-ха-ха!
— Ха-ха-ха! Вы, наверное, думаете, я миллионер. Обещаю с сегодняшнего дня ничего не есть.
— Я возьму твои документы. Но тебе важно убедить экзаменаторов на комиссии.
Я вернулся в клуб, где торговали худобой. Там я обнаружил десятки таких, как я, каждый занимался до изнеможения в надежде хоть немного уменьшиться в размерах и тогда получить место в школе или на службе. Тренировки походили на истязания: наклониться, выпрямиться, сесть, встать, лечь, поднять одну руку, опустить другую, нагнуться вправо, влево, прогнуться вперед, назад — будто я исполнял зикр. И так до тех пор, пока я не начинал обливаться потом и дышать, свесив язык набок, как собака, спасающаяся бегством от хищника.
Я стал пить меньше воды, уже не спал днем, ел только один раз в день. Я укрощал свое тело, как укрощали строптивую лошадь нашего деревенского старосты. Может, это поможет протиснуться сквозь толчею?
И хотя мне было очень далеко до тростинки, я все же сумел убедить экзаменаторов в тот день, когда предстал перед ними. Я спел им кое-какие свои песенки, позаимствовав чужие мелодии. Один рассмеялся, другой улыбнулся (таким было первое признание моих песен), и я стал кондуктором.
В автобусной давке мне представлялось, что я в одной из комнат нашего полуподвала: такой же низкий потолок, так же, согнутые в дугу, толпятся люди, прижимаются друг к другу тела мужчин и женщин, вспыхивает плоть, сталкиваются входящие и выходящие, наступают друг другу на ноги — разгораются ссоры. Один из пассажиров занят только тем, чтобы не упустить освобождающееся место. Самое главное для него — сесть, как будто от этого зависит его судьба.
— Вы позволите, ханум?
— Позволяю. Никто вам не мешает.
— То есть как это никто не мешает?
— Я вам разрешаю!
— Мы же в автобусе.
— Он, наверное, решил, что он в «Хилтоне».
— Подумайте, он сказал: «Позвольте».
— Ей не нравится, что ею пренебрег мужчина.
— А тебе бы это понравилось?
Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!
— Ай, мои ноги, мои бедные ноги!
— Если мы уже сейчас так страдаем от тесноты, что же будет с нашими детьми?
— Какой я умный, что не женился.
— А теснота заменяет ум: сдавит так, что человек лишается способности иметь детей.
— Ну, жить без детей легче, чем переживать эпидемии, голод или войны.
— Теснота — все равно что война. Всякий раз, как я смотрю на своих детей, мне становится страшно за их будущее.
— Еще несколько лет, и мы будем жить на земле только стоя.
— Смешно сказать, но ведь толчею помогла создать медицина. Теперь и в деревне врачи. Подумать только… благо породило бедствие.
— Ой! Я ударился головой об потолок.
Из второго класса доносится сердитый женский голос:
— Отодвинься!
— Не нравится толкучка, бери такси.
— Невежа!
— Сама не лучше!
— Послушайте, осталось всего две минуты. Наберитесь терпения!
— Молодые люди! Положитесь на Аллаха!
Остается две минуты до начала смены. Мой автобус будет стоять, пока до отказа не набьется пассажирами. Они начнут истошно кричать на диспетчера — ведь у них вычтут дневное жалованье. Я больше не могу стоять, все суставы разламываются.
В то утро отец пожаловался на боль в правом колене. Вечером он уже жаловался и на другое колено, и на жар во всем теле. Он обливался потом, распространяя запах уксуса. Приняв таблетку аспирина, он заснул. Утром отец наотрез отказался остаться в постели. Тогда я сказал ему: «Полежи, отец. Аватыф сама пойдет в лавку». В глазах его вспыхнул дикий блеск, и он закричал: «Ты хочешь завладеть всем еще до моей смерти!» — «Ничего мне не нужно. Я просто беспокоюсь за тебя и хочу, чтобы ты отдохнул… Утром, когда ты ушел, у тебя болело одно колено, а когда вернулся вечером, болели уже оба».
В ярости он готов был кинуться на меня. «Ты хочешь продать лавку, чтобы на вырученные деньги накупить себе бумаги и ручек! Знаю я тебя! Аватыф не выйдет отсюда!» — кричал он.
Как обычно, собрались соседи узнать, в чем дело, и восстановить мир. Они и уладили все.
Отец ушел в лавку, сильный как бык, и казалось, никакая болезнь ему не страшна. Но в тот же день он слег и так расхворался, что не мог вынести даже малейшего прикосновения. Суставы его вспухли и словно наполнились водой. Доктор сказал, что болезнь добралась до сердца. Отца сотрясали кашель и рвота, и каждый раз, когда он начинал кашлять, мне казалось, что у него рвутся внутренности. Жалость к отцу разрывала мое сердце. До сих пор помню я его полный страдания взгляд.
Вечером того дня, как мы похоронили отца и все соболезновавшие разошлись по домам, а вместе с ними ушла в слезах и моя замужняя сестра Саида, после того как, наплакавшись, уснули мои сводные братья, Аватыф все еще продолжала рыдать. Один я не пролил ни единой слезинки, хотя горе переполняло меня.
До меня дошло, что я — действительно настоящий наследник отца: его тонких губ, оставшихся книг, товаров, его лавки и даже Аватыф. Я как мог старался успокоить ее, хотя мне самому нужен был кто-то, кто бы утешил меня. Черный цвет ее траурного платья оттенил белизну ее рук. До той поры я не обращал внимания на ее ослепительно белую и гладкую, как шелк, кожу.
На следующую ночь после смерти отца я открыл для себя, что у нее красивый нос. Я понял, что, каков нос, таким будет казаться и все лицо, ибо нос — это главное. Толстый, длинный или курносый нос уродует и другие черты лица. А у нее правильной формы нос, придающий прелесть ее губам, и подбородку, и глазам. У меня даже возникло желание поцеловать его, хотя бы только кончик. И я написал об этом песню.
Ночью мне приснилось, будто я несу отца на руках. Он стонет от боли. Отец — тучный и тяжелый, а я — худой, и вдруг я роняю его на землю. Он отчаянно кричит мне: «Жестокий! Безжалостный! Зачем ты уронил меня?» То, что я еще больше заставил его страдать, было невыносимо. В ужасе я проснулся.
На постели отца тихо спала Аватыф, и кожа ее казалась еще более белой и нежной. Я встал и, стараясь не шуметь, подошел укрыть ее. От нее исходило тепло.
В последующие вечера я нарочно возвращался домой поздно, когда Аватыф уже спала. Мне разрешили работать ночью, что было гораздо приятнее, так как в это время становилось уже не так тесно.
На сороковой день мне надлежало быть подле Аватыф и принимать вместе с ней всех, кто приходил выразить соболезнования. В тот вечер я открыл для себя ее голос. И как это я раньше не замечал, что он волнующий, немного хриплый и полный страсти? В ту ночь я улегся спать поближе к ней, прямо под ее кроватью. Там я проспал первую половину ночи. Вторую я провел на месте отца. Тогда я открыл для себя ее ноги, пальчики на ногах, ногти на пальчиках ног. Мы обезумели от страсти. Потом она, а вслед за ней и я забылись коротким сном.
Я оказался на ярмарке, на ярмарке… в автобусе. Направляясь ко мне, движется процессия — ближе, ближе. Участники процессии со знаменами, факелами и барабанами в руках славят величие Аллаха. Процессию возглавляет мой отец. Он сидит верхом на сахарном коне, в бумажном колпаке, с обнаженным мечом в руках. Конь бьет меня копытами, а отец наносит мне удары мечом. За спиной у него толпятся люди, будто они покупают продукты или пытаются сесть в автобус, не дождавшись, пока выйдут другие. Они толкают и топчут меня. Я пытаюсь закричать, но не могу, потому что рот мой набит землей. Я съеживаюсь под их ножищами, которые словно расплющивают каждый мой сустав. Куда-то пропадают билеты, теряются деньги из сумки, и я тщетно хочу сохранить оставшиеся. Ай-ай-ай! Теперь меня выгонят с работы. До начала смены остается каких-то двадцать секунд. Мои суставы все еще сохраняют следы ударов ботинок, особенно правая коленка, мне все еще больно от ударов меча… Тело обливается потом, распространяющим запах уксуса. Болезнь доползает до сердца.