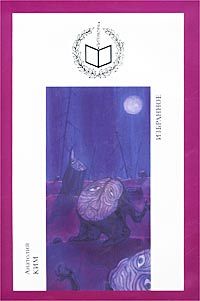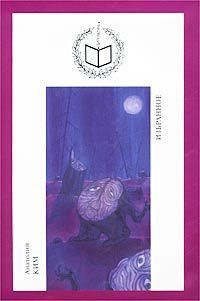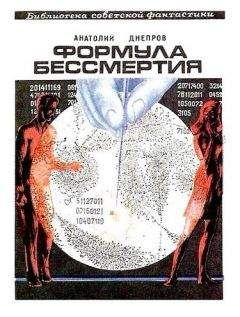Гилберт Адэр - Любовь и смерть на Лонг–Айленде
Мне даже удалось несколько продвинуться в расследовании происшествия, с которого все началось. Восстановив душевное равновесие, я обдумал произошедшее еще раз и пришел к выводу, что не могу позволить себе оставить эту тайну неразгаданной. Я вновь позвонил моему агенту, спросил его, находятся ли переговоры с журналом уже на стадии заключения контракта, и, узнав, что ничего еще не подписано, сказал ему, что я более не заинтересован в публикации отрывков из моей книги и что впредь все дальнейшие предложения такого рода должны отклоняться с порога. Надо сказать, что этот запоздалый отказ удивил его гораздо меньше, чем высказанное вначале поспешное согласие, — к тому же, вероятно, он имел основания думать, что редактор журнала облегченно вздохнет, избавившись от непосильного бремени, которое он необдуманно взвалил на себя. Итак, он выслушал мое распоряжение, не задавая вопросов, и тут же принялся его исполнять. Таким образом, закрывая скобки, скажем, что вся эта история оставила такое впечатление, словно ее и не было вовсе.
Единственное облачко омрачало мой горизонт ночами мне не спалось.
С незапамятных времен у меня была жутковатая и необъяснимая привычка: лежа в постели и находясь в состоянии перехода от яви ко сну, я создавал в своем воображении целую портретную галерею незнакомых лиц, представляющихся мне в мельчайших деталях с натуралистическими подробностями. Привычка эта уже давно не казалась мне чем–то странным или тревожным — более того, я любил это состояние, потому что следом за ним обычно наступал глубокий сон.
Судя по застывшему на них выражению, лица, являвшиеся мне, были откровенно гротесковые. При этом они обладали невероятной жизненностью и правдоподобием, роднившим их (к этому выводу я пришел, размышляя о них как–то во время моего моциона) с карикатурами Домье, японскими масками и непристойно гримасничающими барочными горгульями и кариатидами. Только явившись, каждый такой образ начинал тут же таять, но некоторые из них оставляли по себе смутное воспоминание, и на следующее утро мне еще удавалось вспомнить те из них, которые произвели на меня наибольшее впечатление.
Но в течение последних нескольких дней волшебный фонарь моих полубессознательных грез начал являть мне совершенно новое лицо, причем черты его, расплывчатые и призрачные, поначалу не воспринимались мною с обычной ясностью. Именно эта размытость и не давала мне покоя: пытаясь пристальнее разглядеть лицо, я терял сон.
Так происходило четыре ночи подряд, но на пятую путем чудовищного напряжения воли, от которого, казалось, вот–вот лопнет мой мозг, мне удалось сорвать покров — впрочем, в последнее мгновение он сам отлетел в сторону, подобно вкладке из тонкой рисовой бумаги, предваряющей картину в старых альбомах с репродукциями, открыв мысленному взору загадочное лицо. Оно принадлежало юноше из виденного мной фильма.
Я открыл глаза и потянулся за будильником, который стоял на тумбочке рядом с кроватью. Был без минуты час. Хотя я почти никогда не курил в спальне, но все же держал обычно на тумбочке пачку сигарет и спички. Не включая света, я извлек одну сигарету из пачки и закурил. Глубоко затянувшись, я выпустил дым из ноздрей, проследив, как он улетает к потолку белыми кольцами, натыкаясь в центре комнаты на луч света от уличного фонаря, стоявшего прямо перед моим крыльцом, напоминая мне, и не случайно, световой конус, образуемый лучами кинопроектора.
Вся эта история взволновала меня гораздо больше, чем можно было ожидать, — не в последнюю очередь потому, что увиденное мной в полудреме лицо принадлежало кому–то, кого я знал наяву. С тех пор как я посмотрел фильм, прошло несколько дней. Если не считать пары реплик оттуда, граничивших с кретинизмом и полностью безграмотных, которые против моей воли застряли у меня в памяти и которые мне приходилось оттуда нещадно изгонять в самые неподходящие моменты во время работы над моей прозой, я полностью забыл о нем. Немного поразмышляв над тем, что бы это могло значить, и решив, что это не значит ровным счетом ничего, я погасил выкуренную только наполовину сигарету, выбросил ее в пепельницу и практически сразу крепко заснул.
В работу мою вмешивались и более заурядные происшествия: так, мне доставили первый авторский экземпляр «Обустройства пустоты», за которым через два дня последовали еще девять, в совокупности составив все, что мне полагалось по договору. Девять экземпляров я отослал в Кембридж, надписав их, что потребовало от меня не меньших усилий, чем сама книга.
Тем не менее у меня был обычай перечитывать напечатанную работу перед тем, как начать рассылать ее, — даже если, участвуя на каждом этапе в создании книги, я уже знал в ней наизусть каждую точку с запятой. Мне требовалось самому увериться в том, что читателя не подстерегают никакие сюрпризы. Я приходил в ужас при мысли, что могу получить от друга письмо, в котором наряду с неизбежными комплиментами будет наличествовать приписка, сочувственная по намерениям, но явно насмешливая по тону, сообщающая о пропущенной строке или напечатанном кверху тормашками абзаце. По прочтении мне было не на что особенно пожаловаться, если не считать одной «буквальной» ошибки, от одного взгляда на которую у меня похолодело в груди. К моему ужасу, фамилия «Бодрийяр», принадлежавшая одному весьма непочитаемому мной «мыслителю», дважды на одной и той же странице превратилась в фамилию «Башеляр», что приводило в контексте к полной бессмыслице. Ошибка эта была тем невыносимее для меня, что, судя по всем признакам, дело было не в небрежности со стороны корректора или наборщика, а в моей собственной невнимательности при чтении гранок Я исправил ошибку во всех подарочных экземплярах и снабдил исправление лаконичным комментарием на полях.
Несмотря на все эти обстоятельства, написание «Адажио» продвигалось успешно. Роман приобретал отчетливые очертания, креп на глазах, словно сжатый в ладони ком снега, избавлялся от лишнего сора и шелухи. Толчком к тому, чтобы заставить героя говорить от первого лица, стало, несомненно, то удивление, которое я испытал несколько месяцев назад, узнав, что прежде я никогда этого не делал. Но кроме того, меня подстегивало желание заставить мой персонаж «говорить» в буквальном смысле слова, противопоставив неуклюжую и невразумительную речь глухого ясности и остроте его рассудка. Я волновался, удастся ли мне на бумаге передать звучание голоса человека, лишенного от рождения слуха, поскольку владение таким приемом, как звукоподражание, никогда не числилось в арсенале моих писательских средств. А если у меня все получится, не сочтут ли это рассчитанным на невзыскательный вкус трюкачеством? Одна из моих соседок была глухонемой, и у нее завязались в свое время приятельские отношения с моей женой. Хотя сам я с ней почти не общался, а овдовев, никогда больше не встречался, но отлично помнил удивительные стонущие звуки, которые она издавала, пытаясь что–то сказать, — такие же, наверное, издает обычный человек, находясь под воздействием обезболивающего, впрыснутого щедрой рукою дантиста. Я набросал в рабочей тетради несколько фраз, а вернее, последовательность букв, воспроизводящих эти звуки, и долго работал над ними, пока не понял, что могу применить их в тексте романа.
Погруженный в свои труды, в возвышенные вопросы творческого ремесла, я воздвиг стену между собой и окружающим миром; по самой своей природе я был склонен к затворничеству, но, вынашивая роман, я превзошел самого себя. За несколько месяцев до описываемых событий в одной компании, где находился и я, разговор зашел о модном и, по общему мнению, талантливом молодом романисте, которому к тому же повезло родиться в семье столь же прославленного прозаика предыдущей эпохи, и когда, отвечая на обращенный ко мне вопрос, я вынужден был признать, что не прочел и строчки, написанной этим автором, мой собеседник воскликнул: «Как! Вы не читали ничего у Н.! Да вы настоящий анахорет!», я холодно ответил, что только дурак не мечтает стать отшельником, укрепив тем самым и без того прочную даже среди моих ближайших знакомых легенду, что я веду жизнь желчного затворника.
На самом деле такое мнение во многом не соответствовало истине — если не принимать во внимание, разумеется, те периоды, когда я интенсивно работал; ведь сражаясь с языком, я никогда не позволял себе отвлекаться на то, что Малларме именовал «гласом толпы». Я переставал читать газеты, опасаясь, как бы мой глаз не заметил, а мозг непроизвольно не зафиксировал какого–нибудь из ряда вон выходящего образчика журналистского жаргона, какого–нибудь заголовка с сальным подтекстом, который мне потом педелями не удавалось бы выкинуть из головы, ибо именно крайняя вульгарность и делала его таким прилипчивым. По той же самой причине я переставал слушать радио, а читать позволял себе исключительно на иностранных языках, да и то авторов, принадлежавших к эпохам слишком отдаленным, чтобы они могли оказать на меня какое–либо нечаянное воздействие.