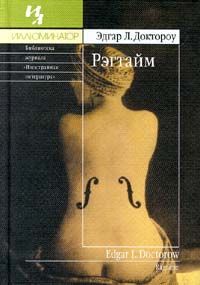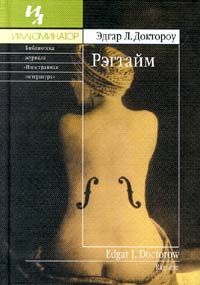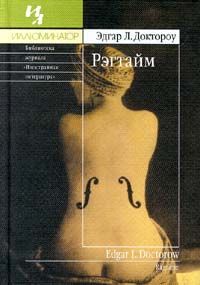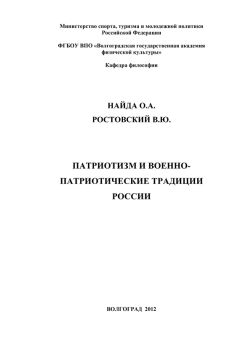Гарри Гордон - Поздно. Темно. Далеко
— Если мужчина вешается от любви, — терпеливо начал Эдик, — то он не мужчина. Если человек вешается от скуки, значит, ему никогда не было весело. Если художник вешается от бездарности, значит, он — поц, и всегда был бездарный. Потому что ничего никуда не девается. Вешаться надо только от совести.
— Бог не велит вешаться, — сказал Парусенко.
— Ну, Бог разберется и поймет, — засмеялся Плющ, — если даже ты понимаешь.
Парусенко невозмутимо разлил на троих подоспевшую водку.
— Хай живе, — сказал Эдик.
— Да не тяните вы, пейте, — высоким голосом затосковал Плющ, — смотреть противно.
У сдвинутых столов, где гулял Степан Бадаенко, Эдик высмотрел Измаила. Тот усиленно жестикулировал и временами зажигал спичку. Три девушки, упершись локтями в стол, тыкались сигаретами в пламя, как щенята. Избегая прикосновений, Измаил отстранялся, держа спичку на отлете. Было душно. Измаил увидел Эдика, отъехал стулом, встал и подошел.
— Алиготе, — поздоровался он, — ну как?
— Измаил, поставь полбанки, — сказал Филин.
— Славик, имей совесть! У тебя же полный стол.
— Это Парусенкино, а я пью только свое, — гордо сказал Славик.
От неожиданности все, кроме Парусенко, засмеялись. Парусенко косо посмотрел на Филина и налил ему, потом себе.
— А мне? — возмутился Эдик.
— Нос в гамне, — опять же неожиданно сказал Филин и, положив тяжелую свою седеющую голову на плечо Парусенко, уснул.
— Пойдем, Эдик, там есть, — приглашал Измаил. — Я говорил о тебе Бодаенко, он хочет тебя видеть.
Степан Бодаенко, председатель Союза писателей, был прозаиком-маринистом. Свой человек в пароходстве, Степан Петрович отправлялся в творческие командировки на судах дальнего плавания, объездил весь свет, писал повести о суровых буднях советских моряков, о китобоях, а то и о тяжкой судьбе пуэрториканского мальчика. Был он высок, крепок в свои шестьдесят, весел и уважаем. Гадостей мелких в подвластном ему Союзе не делал, и, если кто-нибудь просил взаймы, скажем, двадцать пять рублей, давал не задумываясь.
— Ну конечно помню, еще пацаном. Мы ведь жили в одном доме, на Ольгиевской. Изя говорит, ты пишешь повесть?
— Роман, — сердито покосившись на Измаила, поправил Эдик.
— О, роман еще лучше, молодец.
Степан Петрович потянулся было с намерением хлопнуть Эдика по локтю, но, глянув на него, передумал.
— Как напишешь, принеси, почитаем. Выпьешь с нами коньяку?
— Благодарю вас, — ответил Эдик, кивнул и пошел к своему столику. «Где он со своим коньяком, когда надо?»
Филин спал, завалив собой почти весь стол, и даже похрапывал. Парусенко с Плющом, помучившись, отволокли его вместе со стулом, оставляющим синие следы на линолеуме, в угол и прислонили к стенке.
— Слышишь, Паруселло, — пикировал веселый Плющ, — а правда ли, что ты художником заделался? Ну как же, говорят ты в кухне на дверях колбасу нарисовал. Краковскую.
— Ну и что, если так?
— Напротив, очень хорошо. Я бы еще пририсовал маринованный чеснок. А? Розовый на коричневом.
— Будь здоров, Эдик, — сказал Парусенко и пошел к выходу.
— Зачем ты его так? — спросил Эдик, безо всякого, впрочем, интереса.
— Да хрен с ним, пусть обижается. Что они, падла, все лезут. То он писатель, скажи ему спасибо, теперь он художник, то он землемер. И что ее, бедную, мерить? Она, падла, давно измерена. И что характерно: когда ты свой роман допишешь, он будет каким-нибудь председателем и скажет: «Эдик, больше так не делай». Классно, правда?
Парусенко обиделся, но не очень. Было, правда, досадно и немного грустно. Болтают и болтают, делом надо заниматься. Колбасу он и вправду нарисовал, маслом на филенке кухонной двери, и, что ужасно, розовый чеснок тоже. Ужасно, что не скроешься от них, даже у себя дома. Надо разобраться, кто это мог трепануть…
Тикать надо из этого паршивого города. Парусенко стало жалко себя — Одессу он любил. Ничего, он выстроит свою жизнь почище всякого романа, жизнь, полную таких приключений и поступков, что дядя Хэм перевернется в своем дорогом гробу. Я вам покажу последний день Помпеи.
Вспомнилось, — Карлик рассказывал: пацаном на первом курсе, сколько ему было? шестнадцать? — писал он этюд на спуске Торговой, где лестница выходит на Приморскую. Писал он сверху лестницу в солнечных пятнах, по лестнице поднималась девушка в черном платье, получалось прямо левитановская аллея в Сокольниках.
Карлик посадил ее одним мазком, но она не вписывалась, была слишком черна и выскакивала — «как блоха на белой простыне» — говорил в таких случаях Павлюк Николай Артемович. Карлик возился, забыв обо всем, пока не ощутил жар на левой щеке. Девушка стояла рядом, почти прикасаясь, и смотрела на этюд.
— Умеешь рисовать людей? — зловеще спросила девушка.
— Умею, — оторопело ответил обожженный Карлик.
Девушка отпрыгнула, засмеялась и, взбегая по лестнице, закричала:
— А я умею их делать!
«Проститутка», — восхищенно догадался Карлик, глядя снизу вверх на удаляющуюся девицу.
Почему и вспомнилось, что все их картинки и книжки, как блоха на белой простыне, живое им не по плечу. «А я буду», — упрямо думал Парусенко. «Как проститутка?» — с интонацией Плющика спросил внутренний голос. Парусенко пожал плечами: «А хоть бы и так…».
На углу Успенской окликнула его старая знакомая. Аня некогда была подругой жены, приходила к ним в дом, что-то там они с Марией перебирали, рассматривали, тряпки какие-то, чашечки. Парусенко был недоволен ее посещениями, пока не заметил, что она строит ему зеленоватые, твердые, как оливки, глазки. Затем она незаметно исчезла, и даже Мария ее почти не вспоминала. Аня похорошела за эти год или два, вроде бы больше загорела, у нее был низкий зад и крепкие ноги.
Поздоровавшись, Парусенко прежде всего проверил глазки. Оливки были на месте, мало того, созрели еще больше, обещая стать в случае чего полноценными греческими маслинами. Она взяла Парусенко под руку, заявила, что не торопится и пойдет с ним хоть на край света. Довольный Парусенко прогнул спину и неторопливо, занося со стороны к центру левую ногу, затем правую ногу, левую, правую, левую, правую, повел свою даму на край света. Мария обрадовалась Ане, журила ее за то, что надолго пропала, Аня в ответ обещала рассказать такое…
Парусенко прошел в спальню, достал вишневую трубку, табак, сел в кресло и стал думать. Подумав минут двадцать, Парусенко вернулся в кухню, где дамы готовили чаепитие, неприязненно глянул на Аню, на нарисованную колбасу и, извинившись перед гостьей, отозвал Марию.
Нахмурившись, он открылся жене, что был сегодня, так получилось, в Союзе художников, а если честно, то его давно приглашали, но он не решался. Сегодня же он решился, взял папку с рисунками, нет, Мария не знает. Он рисовал по ночам, писал акварели на море, знал об этом только один человек, Плющ, он и снабжал бумагой и красками. Было неловко и даже вредно открываться до времени, но теперь он с облегчением покажет все, когда заберет папку из Союза.
В Союзе его очень ругали, особенно Юрий Егоров, что он зарывает талант в землю, что нет фундаментальной практики, директор художественного училища предлагал приходить и писать со студентами обнаженную натуру, но он не мальчишка, к тому же днем, как правило, бывает на работе. Поглядев сейчас на Аню, он вспомнил, что она была когда-то натурщицей, к тому же формы ее конкретны и просты для начинающего, как у Аристида Майоля, и если Аня даже не согласится позировать обнаженной, то и одетую рисовать ее тоже приятно, хоть обнаженную полезней, если, конечно, она согласится при Марии.
Мария слушала, сделала большие глаза в том месте, где хвалил Егоров, потом сказала:
— Я все равно собиралась к тетке. Трех часов тебе хватит?..
Попили чаю, и деликатная Мария спохватилась, что, Боже мой, обещала тетке навестить ее, уже сколько — четыре? — Аня, дождись меня обязательно, и больше не пропадай, — моргнула мужу, желаю, мол, успеха, и выкатилась.
Парусенко варил крепкий кофе по-турецки, морщась от табака трубки, напевая: «Гори-гори, моя звезда…»
Столпотворение в баре рассосалось внезапно. Ушел Бадаенко с девушками, Измаил помахал Эдику и Плющу рукой — Эдик не заметил, в ответ помахал один Плющ, вывез Морозов коляску с плачущим младенцем, надышавшимся табаку, Филина вывели давно. Плющ приподнял за подмышки легкого Эдика, Эдик встрепенулся, и они пошли к остановке троллейбуса на Греческую площадь.
Лиля протирала столы, барменша Липа возилась в подсобке. Из посетителей осталась одна пожилая женщина с желтым шелковым тюрбаном на голове. Экзотический тюрбан никак не соответствовал ее лицу — брови ее были аккуратно выщипаны, губы тронуты невпопад светлой помадой, но все лицо ее было умиротворенно и влажно, как выжженный бугорок после дождя. По вечерам в нем оживали цикады.