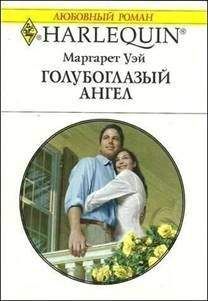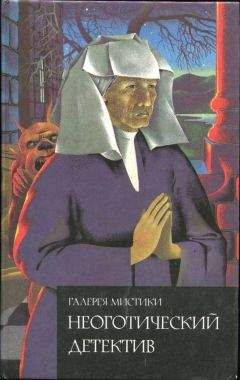Маргарет Лоренс - Каменный ангел
Мистер Трой выбрал не самый удачный день. Боль под ребрами терпима, зато живот рычит и урчит, как зверь, живущий отдельно от меня. У меня запор. Я — страдающий (только вот совсем не праведный) Иов, и ни кора крушины, ни инжирный сироп, ни взвесь магнезии не могут избавить меня от мук. Я сижу как на иголках. Тяжелый живот надут, как шар, его распирает, и я боюсь, что начну пускать ветры.
Несмотря ни на что, к приходу священника я все же потрудилась надеть серое платье в цветочек. Если верить Дорис, это шелковый трикотаж. Платье я выбрала не случайно, неброское, с мелкими красновато-желтыми цветами, оно не должно резать глаз маленького служителя Господня. Да и мне оно нравится. Ткань свободно спадает складками, а россыпь цветов почти перекрывает серый цвет. Серый — это не только цвет старческих волос. Это цвет некрашеных домов, стены которых трескаются от погоды, омываемые дождем и обжигаемые солнцем. Дом Шипли никогда не красили, ни разу в жизни. Казалось бы, за столько лет хоть кто-нибудь да мог бы отложить доллар-другой и купить пару галлонов краски. Но нет. Брэм все время собирался это сделать: весной он говорил, что займется этим в начале осени, ну а осенью конечно же переносил все на весну.
Мистер Трой старается изо всех сил.
— Длинная и насыщенная жизнь, как у вас, — это истинное благословение…
Я не отвечаю. Разве он понимает, что говорит? Я не стану ему помогать. Пусть барахтается.
— Нелегко вам, наверное, жилось в те времена? — неуверенно продолжает он.
— Пожалуй, что и нелегко. — Но только потому, что все времена одинаково тяжелы. Этого я мистеру Трою не говорю, он-то думает, что полвека — это целая пропасть.
— Вы ведь выросли на ферме, миссис Шипли?
Зачем он спрашивает? Ему же все равно, на ферме я родилась или в приюте, в Сионе или в аду.
— Нет. Не на ферме. Я выросла в городе Манаваке. Отец мой обосновался там одним из первых. Самый первый торговец в городе был, между прочим. Его звали Джейсон Карри. Фермерством он никогда не занимался — у него было четыре фермы, но он сдавал их в аренду.
— Богатый, наверное, был человек.
— Да уж, — говорю я. — Земных богатств у него было достаточно.
— Да-да, — говорит мистер Трой, и голос его подпрыгивает, как идущий на нерест лосось, — так он торопится показать свою духовность. — Истинное богатство деньгами не измеришь.
— Он нажил состояние в двести тысяч долларов, если не больше, и ни цента из этой суммы не досталось мне.
— Вот как? — говорит мистер Трой, не зная, как полагается себя вести в таких случаях. Больше я ему ничего не скажу. Не его это дело. И все же сейчас мне кажется, что, если бы я осторожно поднялась к себе в комнату и тихонько подошла к зеркалу, застав его врасплох, я снова увидела бы в нем молодую Агарь с сияющими волосами — черногривого жеребенка, который вместо тренировочного манежа отправляется в институт благородных девиц в Торонто.
В глубине души я понимала, что вместо меня на Восток должен был ехать Мэтт; я даже хотела сказать ему об этом, но так и не смогла. Я чувствовала, что мне нужно поговорить об этом и с отцом, но очень боялась, что он передумает и не отправит меня. Потому я дождалась дня, когда чемодан был уже собран и все казалось решенным. Только тогда я подняла эту тему.
— Отец, а тебе не кажется, что это Мэтт должен поехать в колледж, а не я?
— Он что, станет от этого лучше работать в магазине? — отозвался отец. — И вообще, ему уже за двадцать, поезд ушел. К тому же он нужен мне здесь. Я вон ни в каких колледжах не учился, и ничего, выжил. Чего надо, Мэтт и здесь освоит, коли захочет. С тобой все сложнее: тут никто не научит тебя одеваться и вести себя, как подобает леди.
Таким набором доводов он легко меня убедил. Когда пришла пора прощаться с Мэттом, я сначала боялась смотреть ему в глаза, но потом подумала — с какой стати? Я посмотрела на него в упор и сказала «пока» так ровно и спокойно, как будто уезжала в Южную Вачакву или Фрихолд и вернусь к вечеру. Потом, уже в поезде, я плакала, думая о нем, но брат конечно же об этом не знал, и я сделала все, чтобы он не узнал об этом никогда.
По возвращении через два года я умела вышивать и говорить по-французски, могла составить меню ужина из пяти блюд, разбиралась в поэзии, знала, как правильно обращаться со слугами и какая прическа мне больше всего идет. Совершенно бесполезные навыки для той жизни, которую мне уготовила судьба, но тогда я об этом и не догадывалась. Словно дочь фараона, я с неохотой возвращалась в отчий дом — в наш каменный дворец с ровными и опрятными стенами, так странно смотревшимися на фоне дикой и неухоженной местности, возвращалась к тому же холму, где стоял его памятник — уверена, более дорогой сердцу отца, чем лежавшая под этим памятником кобылица, что не сумела составить достойную пару племенному жеребцу.
Отец окинул оценивающим взглядом мой костюм бутылочно-зеленого цвета и шляпу с перьями. Уж лучше бы он выразил неодобрение или сказал, что я выгляжу нелепо, но нет — он просто кивал и кивал, как будто я вещь, его собственность.
— Дорого мне обошлось твое ученье, но оно того стоило, — сказал он. — Тобой можно гордиться. К завтрашнему дню все станут так говорить. В магазине работать не будешь. Не для тебя это. Будешь вести счета и заказывать товар, а это и дома можно делать. Знаешь, как мой магазин разросся с тех пор, как ты уехала? Я теперь устраиваю приемы — ничего особенного, так, пару друзей на обед зову. Дело полезное. Рад, что ты вернулась такой модницей. Долли вполне сносно готовит, но хозяйки из нее не выйдет — не того поля ягода.
— Я хочу учить детей, — сказала я. — В школе Южной Вачаквы, например.
Мы оба были донельзя прямолинейны и всегда шли напролом. Дипломатия была нам неведома. Другая бы неделю его готовила. Но только не я. Мне это и в голову не пришло.
— Ты думаешь, я тебя за этим на целых два года отправил на Восток? Чтобы ты учительствовала в школе из одной комнатки? — закричал он. — Даже не думай, ноги моей дочери там не будет. Никакого преподавания, мисс.
— Мораг Маккаллок работает учительницей, — сказала я. — Дочери священника можно, а мне почему нельзя?
— Всегда подозревал, что у Дугалла Маккаллока мозгов маловато, — сказал отец, — вот тебе и подтверждение.
— Но почему? — негодовала я. — Почему?
Мы стояли у лестницы. Отец схватился обеими руками за стойку перил, как за чье-то горло. Боже, как я боялась этих рук и его самого, но я бы скорее умерла, чем показала ему свой страх.
— Ты считаешь, я позволю тебе поехать в Южную Вачакву и жить в одной комнате Бог знает с кем? Или ходить на эти их танцы, чтоб тебя лапали парни со всех окрестных ферм?
Натянутая, как струна, я стояла на нижней ступеньке в своем длинном зеленом обмундировании, застегнутом на все пуговицы, и смотрела на него яростным взглядом.
— Ты считаешь, я бы это допустила? Почему ты так плохо обо мне думаешь?
Его руки ходуном ходили по гладкому позолоченному дереву стойки.
— Что ты знаешь о жизни, — произнес он еле слышно. — У мужчин ужасные помыслы.
Я не задалась тогда вопросом, почему он заговорил про помыслы, а не поступки. Только сейчас, вспоминая, задумалась. Если бы он повел себя как всегда, то есть провозгласил непреложный закон тоном, не терпящим возражений, я бы разозлилась, но на этом бы все и закончилось. Но он поступил не так. Взял меня за руку. Да так, что на секунду мои пальцы пронзила боль.
— Останься, — сказал он.
Наверное, из-за этой боли я и сделала то, что сделала. Я отдернула руку, как будто дотронулась до раскаленной плиты. Он не промолвил ни слова. Повернулся и вышел во двор, где Мэтт объяснял извозчику, что делать с черным чемоданом с надписью «Мисс А. Карри».
Я знала: надо пойти за ним, сказать, что это была минутная слабость и я не хотела его обидеть. Но я не двинулась с места. Просто стояла у лестницы и смотрела на картину в коричневой рамке — стальную гравюру с изображением овец и надписью: «С тихим блеяньем бредет через поле усталое стадо»[5].
Я не поехала учить детей. Я осталась и стала заниматься его счетами, а также изображать радушную хозяйку, вести вежливые непринужденные беседы с его гостями — одним словом, делать все, что он от меня хотел, ибо я осознавала (иногда со злостью, иногда с отчаяньем), что верну ему долг, чего бы мне это ни стоило. Но когда он приводил в дом женихов для меня, многих из них я удостаивала лишь презрительным взглядом.
Через три года после возвращения в Манаваку я встретила Брэмптона Шипли — исключительно по воле случая, ведь вращались мы совсем в разных кругах. Однажды отец отпустил меня на танцы в школе в сопровождении тетушки Долли — вся выручка должна была пойти на строительство городской больницы. Пока тетушка Долли беспечно болтала с Флосс Дризер, Брэм пригласил меня на танец, и я согласилась. Все Шипли хорошо танцевали, надо отдать им должное. При его-то немалом весе Брэм на удивление легко двигался.