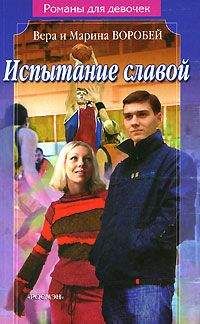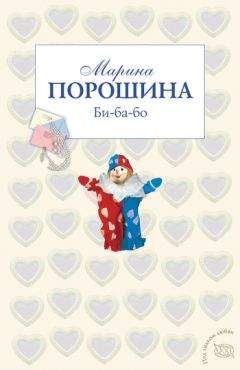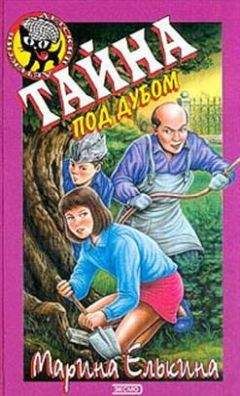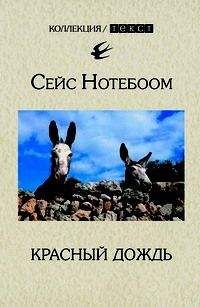Сейс Нотебоом - Следующая история
Теперь я отступаю на шаг, но нечто странное остается, как будто меня подсветили изнутри. Если вчера вечером был страх, то теперь это — растроганность. «Эссекс хаус» — для португальской гостиницы название идиотское. Руа дас Жанелас Вердес, у самой Тахо.[19] «Где жизнь так величава и степенна, Я ощутил в груди дыханье тлена: На Тахо медленной пустынных берегах, — От них умру, на них рассыплюсь в прах…» Слауэрхоф.[20] Помню еще, как говорил перед классом о непередаваемой в любом другом языке лукавой роли предлога «aan»[21] в этой строфе. Только по-нидерландски можно одновременно умереть и «от» рака, и «на» берегах Тахо, но никто даже и не улыбнулся, только она. Нужно выйти из ванной, собственное мое присутствие здесь становится для меня невыносимым. Задаюсь вопросом, хочу ли есть, и думаю, что нет. Звоню портье, заказываю в номер завтрак. «Pequeno almoco»,[22] — забыл, что могу говорить по-португальски. Голос, отвечающий мне, спокоен, приветлив, молод. Ни следа удивления, как и у девушки, принесшей завтрак. Или я ошибаюсь, и все же есть что-то почтительное в ее манере, почтение (какое, собственно, нелепое слово), на которое мне со стороны обслуживающего персонала не приходится и рассчитывать. Подогнув под себя ноги, сажусь на пол в позе портного и расставляю завтрак вокруг себя. Понимаю, что теперь должен приняться за труд воспоминания. Этого хочет комната. Мною овладевает точь-в-точь такое же чувство, какое случалось прежде, когда нужно было проверять стопку переводов из Геродота. Всегда питал слабость к этому прозрачному фантасту, выдуманная история привлекательнее, чем занудный террор фактов. Однако расправа посредством удушения, которой мои школьники подвергали эту, ну, может, и не самую блистательную, прозу античного баснописца, отбивала, конечно, всякую охоту к данному занятию. Кроме тех случаев, когда в стопке был ее перевод, хотя нередко она и придумывала от себя что-нибудь, чего просто-напросто не было в тексте; персидская привычка, лидийская принцесса, египетское божество.
Один-единственный во всей школе — включая ректора, учителей, учительниц, лаборанток — я не был влюблен в Лизу д'Индиа. Она блистала не только по моему предмету, она была хороша по всем. В математике — светлый ум, в физике — пытливость первооткрывателя, в языках же она входила в самую душу чужой речи. В издаваемом школьниками журнале появились ее первые новеллы, и это были рассказы женщины, помещенные среди лепета детей. Решающий бросок, принесший победу школьной команде в баскетбольном турнире, сделан ею. При всем этом телесная красота была, разумеется, уже ненужным излишеством, но ничего не поделаешь, среди шестидесяти глаз в классе избежать ее взгляда было невозможно. В ее черных волосах поблескивали седые пряди, будто она и до того жила уже очень долго, — знак иного пласта времени во владениях юности, оттого, наверное, что тело ее знало: умереть ей предстоит рано. Про себя я называл ее Грайей, как дочерей Кето и Форкиса, которые были рождены седовласыми, зараженные ужасной старостью. Однажды я сказал ей это, и она бросила на меня взгляд, встречающийся у людей, которые тебя на самом деле не видят, так как в мыслях они где-то совсем в другом месте или потому, что сказанное тобой задело тот потаенный уголок души, то самое нечто, что они уже знают и не хотели бы, чтобы другой тоже это знал. Она была дочерью супружеской пары из первого набора гастарбайтеров, итальянцев, которые вместе с турками, испанцами и португальцами призваны были дать начальный импульс избавлению Нидерландов от их извечного провинциализма. Узнай ее отец, рабочий-металлург из Катании, что Аренд Херфст состоит с ней в любовной связи, то, вероятно, убил бы его или с криком побежал бы к ректору, которому и без того тяжело, ведь ему пришлось уступить ее этому кошмарному Херфсту. Как вышло, что такое не обнаружилось раньше, не знаю: казалось, все и каждый, ученики и учителя, окутывали Лизу д'Индиа вуалью молчания, оттого, быть может, что мы все понимали — этому суждено вскоре кончиться, она должна будет исчезнуть. Мы — значит, и я тоже. Но я не был влюблен в нее, не мог в нее влюбиться, категорический императив я прочно укоренил во всей своей системе — этого быть не должно, и, следовательно, я этого не могу. За те несколько лет, пока она была у меня в классе, мне открылась некая разновидность счастья, которая, бесспорно, имеет отношение к любви, но не к тому вульгарному ее варианту, что ежедневно мерцает на всех телевизионных экранах, и не к тому заполошному, судорожному и бессмысленному недомоганию, с каким невозможно совладать и которое называют влюбленностью. О том, какие бедствия она влечет за собой, я знал более чем достаточно. Единственный раз за всю свою жизнь я все же стал одним из этих заурядных людей, тех, других, смертных, ибо был влюблен в Марию Зейнстра. Один лишь раз — и роковой сразу для всех действующих лиц. Я рад, что остальных уже нет и что мне приходится рассказывать это лишь тебе, хотя и сама ты — из моего собственного рассказа. Однако ты уже знаешь об этом, и я так и сохраню третье лицо, сколько смогу выдержать. До тех пор, пока у меня не останется сил сопротивляться этому. Banalitas banalitatis.[23] Магическое заклинание, благодаря ему в течение двадцати лет удавалось избегать всякой, даже малейшей, мысли о событиях тех дней. Что до меня, то я напился воды из Леты: прошлого для меня больше не существовало, одни лишь гостиницы, двух-, трех- или пятизвездочные, да та ахинея, что я писал про них. Так называемая настоящая жизнь один лишь раз вмешалась в мои дела, и была она ничуть не похожа на ту, к которой подготовили меня слова, строки, книги. Рок подобает незрячим провидцам, оракулам, хорам, возвещающим смерть, — и не имеет никакого отношения к одышливому сопению невдалеке от холодильника, возне с кондомами, поджиданию в «хонде» за углом, свиданиям украдкой в лисабонской гостинице. Существует лишь то, что записано на бумаге; все же, что тебе надлежит совершать самому, — бесформенно, подчинено лишенному всякой рифмы случаю. И все тянется слишком долго. И если кончается плохо, то не сходится размер стиха, а вычеркивать ничего нельзя. Пиши тогда, Сократ! Но нет, не будет он, и я тоже не буду. Писать, когда уже написано, — это для обуянных гордыней, для слепцов, для тех, кому не дано попробовать на вкус собственную свою смертность. Теперь я бы хотел на какое-то время умолкнуть, чтобы прочь смыть все эти слова. Ты не сказала, сколько времени отведено мне для этого моего рассказа. Я не могу ничего больше отмерить. Теперь хочется услышать мадригал Сигизмундо д'Индиа. Прозрачность, ощущение времени, одни лишь голоса, хаос чувств заключен в стройный порядок композиции. Впервые она услышала мадригал д'Индиа у меня дома. «Твой предок», — возгласил я, словно вручая ей подарок. Хам я. Всегда им был. Учитель из черни — рядом с царственным учеником. Она стояла перед книжным шкафом, единственным моим подлинным генеалогическим древом, — дивная узкая рука неподалеку от Гесиода, Горация — и, обернувшись, сказала: «Отец мой работает металл!», будто желая как можно больше увеличить расстояние между собой и музыкой. Но я не был влюблен в нее, я был влюблен в Марию Зейнстра.
Прочь из этой комнаты! Из какой комнаты? Из этой вот — из той комнаты в Лисабоне. Сократу страшно, д-р Страбон не смеет высунуться, Херман Мюссерт не знает, зарегистрирован ли он в книге постояльцев или нет. «Откуда он взялся, этот странный господинчик?» — «В каком он номере?» — «Ты его, что ли, записывал?»
Ничуть не бывало. Хватаю карту Лисабона из серии «Мишлен». Разумеется, все уже лежало под рукой наготове. «Трэвеллер'с чеке», португальские эскудо в моем портмоне, кто-то меня любит, ipsa sibi virtus praemium.[24] И страх оказался напрасным, так как очаровательная нимфа, которой я отдаю ключ, озаряет меня сиянием своих глаз и произносит: «Bom dia, Doutor Mussert».[25] Август — месяц возвышенного. Светло-сиреневые гроздья вистарии, затененный патио, ведущая вниз каменная лестница, тот же самый, прежний портье, как и тогда; двадцать лет он варился во времени, я узнаю его, он притворяется, будто узнает меня. Мне нужно налево, к маленькой pastelaria,[26] где она объедалась крохотными ярко-желтыми бриошами, мед лаком блестит на жадных ее губах. Не блестит вовсе. Блестел. Кондитерская все еще на месте, мир вечен. «Bom dia!» Из пиетета съедаю такую вот штучку, чтобы еще раз почувствовать вкус ее губ. Cafezinho в маленькой чашечке, крепкий, горький, — это уже скорее мой собственный вклад. Горько-сладкий, подхожу к киоску напротив, покупаю «Диариу ди нотисиаш», однако новости о событиях в мире меня не касаются. Так же, впрочем, как и тогда. Теперь — Ирак, что было тогда, не помню уже. А Ирак — это запоздалая маска собственной моей Вавилонии, Аккада и Шумера, и еще земли халдеев. Ур, Евфрат, Тигр и восхитительный Вавилон, бордель столикого языка. Замечаю, что начинаю мурлыкать какую-то мелодию, что появился у меня энергичный шаг, походка лучших дней. Направляюсь к Largo de Santos, потом к Avenida 24 de Julho. Справа малюсенький поезд и игрушечные трамваи ярких детских цветов. Она, должно, позади них, моя река. Почему из всех рек в мире именно эта настолько меня растрогала, не знаю. Наверное, еще самым первым виденьем, так давно, давно это было, 1954, Лисабон — пока еще столица разлагающейся мировой империи. Мы уже потеряли Индонезию, англичане — Индию, но здесь, у этой реки, казалось, что законы реального мира не имеют силы. У них был еще Тимор и Гоа, Макао, Ангола, Мозамбик, солнце их все еще не закатывалось, где-нибудь в их империи пока еще царили и день, и ночь одновременно, так что представлялось, будто люди, которых я видел, среди бела дня пребывали также и во владениях сна. Мужчины в белых штиблетах, что на Севере в те времена было невиданной диковиной, прогуливались рука об руку вдоль широкой коричневой реки, беседуя на затуманенной и протяжной латыни, у которой в моем ощущении было что-то общее с водами — с водами слёз и водами мировых морей, — от вантов кораблей Мануэла,[27] украшавших своими узлами дворцы прежних королей, и до юрких лодчонок, сновавших между Касильяс, Баррейро и угрюмым символом прощания — Беленской башней, Торре де Белен, — последним, что видели отплывающие первооткрыватели в покидаемом отечестве, и первым, что они видели, возвращаясь туда через годы. По крайней мере, если они вообще возвращались. Я возвратился, я прошел мимо патетической статуи Дюка де Терсейра, который в прошлом веке освободил Лисабон от чего-то там, между трамваями пересек набережную Cais do Sodré и оказался у реки — такой же, как и тогда, как и во все времена, только теперь я был знаком с ней лучше, знал ее источник на зеленеющем поле, где-то там, позади, в Испании, неподалеку от Куэнки, знал скалистые стены, выточенные ею у Толедо, неспешное течение через Эстремадуру, знал ее происхождение, слышал журчание воды в речи, омывавшей меня. Позже (гораздо позже) я как-то сказал Лизе д'Индиа: «Латынь — это сущность, французский — мысль, испанский — огонь, итальянский — воздух (конечно же, я сказал «эфир»), каталанский — земля, а португальский — вода». Она засмеялась высоко и звонко. А Мария Зейнстра не смеялась. Может быть, даже здесь, на том самом месте, где стою теперь, я опробовал на ней ту же фразу, но она в ней ничего не увидела. «Для меня португальский — что-то вроде шелеста, — сказала она в ответ. — Ничегошеньки не понимаю. А насчет воды и прочего — мне это кажется совершенно немотивированным, и уж во всяком случае не очень-то научным». На что мне, по обыкновению, ответить было нечего. Я рад был уже тому, что она здесь, хотя река моя и показалась ей чересчур коричневой. «Можно себе представить, сколько тут плывет всякого».