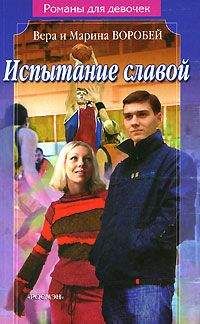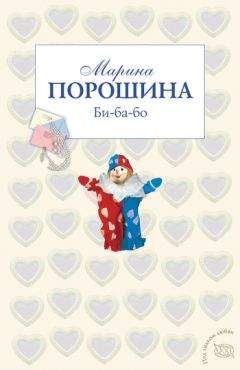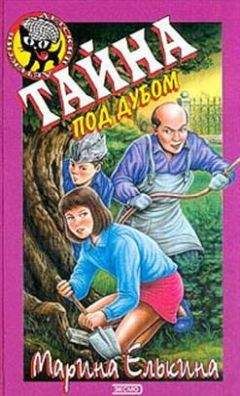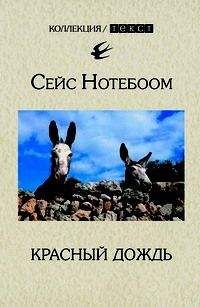Сейс Нотебоом - Следующая история
Гуманоиды в зале съежились.
«Is there anyone out there?»[15]
Вокруг меня было теперь так же тихо, как на пустынных дорогах Вселенной, которыми беззвучно летел Странник, поблескивая в лучах космического света, всего лишь на пятом году из отведенных ему девяноста тысяч. Девяносто тысяч! Пепел пепла нашего пепла отречется от нас задолго до того, как закончится это время. Нас и не было никогда! Музыка нарастала, гной все сочился у меня из глаз. Вот это были метаморфозы! Голос выстрелил в последний раз: «Are we all alone?»[16]
Вдруг я понял. К этому голосу не была прикреплена гортань. Этот голос уже был частью нашего отсутствия, так же как и музыка была отрицанием того, что высказал некогда Пифагор в своем учении о гармонии. Среди других я вышел на улицу, оживленный, радостный и в то же время жалкий. Рассмотрев в зеркале туалета свои смехотворно покрасневшие глаза, я осознал, что плакал не потому, что смертен, но из-за подтасовки, от обмана. Будь я дома, то сразу же восстановил бы порядок при помощи мадригала Джезуальдо[17] (убийцы, написавшего самую чистую на земле музыку), но здесь мне пришлось прибегнуть для этого к двойному бурбону. Вдали виднелся Белый дом, невозмутимый и колониальный, где, несомненно, в тот момент готовилось что-то ужасное.
А теперь — иррациональное, мнимое слово, всякий раз выбивающее почву у нас из-под ног, — теперь я лежал в какой-то комнате в Лисабоне, с зажмуренными глазами, вспоминая о том, другом теперь — вечера накануне (если это был вечер накануне), — когда глаза мои были открыты и я лежал, рассматривая ту фотографию. И механический Путник, и я тем временем уже успели пространствовать дальше; я писал кретинские свои путеводители, он без передышки делал фотоснимки, и теперь шесть из них, сгруппированные в один, были у меня в руках: Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун — все старые мои знакомцы по Овидию, метаморфизировавшиеся теперь в ничтожные световые точки на крупнозернистых, линялых, запятнанных саванах, которые несомненно должны были представлять собою космические пространства. «Теперь «Вояджер» покидает солнечную систему» — гласила надпись. Он-то, конечно, покидает! Вперед, в дальние дали! Бросив нас одних! Нет-нет да и присылая потом фотокарточку, которая с таким же точно успехом может быть снята с любой из многих миллиардов других звезд на задворках Вселенной, чтобы лишний раз поперчить, еще растравить унизительное сознание нашей ничтожности, а ведь мы, нотабене, не только сами сделали этого фотографа, но еще и отправили его в путь, так что спустя девяносто тысяч лет должны же мы хотя бы немножко быть в курсе, как там и что.
Я заметил, что начинаю засыпать, и в то же время стало казаться, будто мощная волна, пройдя меня насквозь, подхватила, захлестнула и повлекла с такой силой, о которой я не предполагал даже, что такая вообще может существовать. Я думал о смерти, но все-таки не поэтому, а еще из-за фотографии. Ничего не поделаешь, любая мысль у меня сразу же заодно оборачивается и другой, и сквозь мизерные звездочки из газетной бумаги в моей руке я увидел одну из тех ужасающих картин «vanitas»,[18] изображение земной тщеты, к которому прибегали наши предки, чтобы вызвать в себе мысль о собственной своей смерти: какой-нибудь монах (если где-нибудь среди терний у его страдальческих босых ног лежала кардинальская шапка — это всегда был святой Иероним), склонившийся над столом, поочередно глазея то на череп кого-то, кому никогда не удалось бы достичь остроумия гамлетовского Йорика, то на человека, истязаемого на кресте. Зловещие тучи, бесплодные пустынные ландшафты, где-нибудь там — лев. Возможно, они должны были сопротивляться этому миру потому, что он у них еще был; наш же мир — лишь фотография в газете, снятая с расстояния в шесть миллиардов километров. Самым поразительным было, конечно, то, что газета, которую я держал в руке, одновременно находилась и на этой тусклой звезде, но не знаю, не помню, подумалось ли мне все это еще тем вечером. Чаще всего мне удается напасть на след своих мыслей вплоть до того нелепого и унизительного момента засыпания, когда духу приходится капитулировать перед телом, которое с лакейской угодливостью смиряется с наступлением ночного мрака и ничего не желает более — чем притвориться, будто его, тела, нет, разыграть собственное отсутствие. Вчера было по-другому. Я заметил: мысль, завладевшая мной, какой бы она там ни была, отчаянно пыталась прийти в согласие с той медленной волной, которая словно влекла меня за собой. Все мироздание старалось погрузить меня в бесчувствие, и казалось, будто я пытаюсь подпевать этому бесчувствию, слиться с ним, стать частью его, ведь и подхваченная волной прибоя рыба также становится частью волны. Однако, чего бы я ни хотел — лететь, плыть, петь, думать, — мне ничего больше не удавалось. Самые огромные в мире руки подняли меня в Амстердаме и, судя по всему, положили в какую-то комнату в Лисабоне. Они не причинили мне вреда. Я нигде не ощущал боли. Не ощущал я также и, как бы это выразиться, горя. И удивления — тоже, но то было, очевидно, следствием моего каждодневного общения с Овидиевыми «Метаморфозами». (См.: Книга XV, стих 60–64.) И у меня есть своя библия, и она действительно помогает. Кроме того, хотя я все еще не заглядывал в зеркало, тело мое на ощупь вроде казалось еще самим собою. А значит, я не стал кем-то другим, я всего лишь оказался в той комнате, в которой — по законам логики, насколько они были мне знакомы, — пребывать не мог. Комната же эта была мне знакома, так как более двадцати лет назад я совершил здесь прелюбодеяние.
Прогорклый вкус этого слова возвратил меня в мир действительности. Даже более того — я подтянул колени и положил не тронутую сном подушку, лежавшую рядом со мной, под голову, так что теперь почти полусидел в постели. Нет ничего лучше подлинного дежавю, и — вон они всё еще висели: безвкусный, семнадцатого века, портрет чересчур высоко оцененного поэта Камоэнса и гравюра, изображавшая великое лисабонское землетрясение — фигурки без лиц бросаются во все стороны, чтобы не оказаться погребенными под развалинами. Я еще отпускал по этому поводу шуточки, обращаясь к ней, но ей не нравились остроты такого рода. Не затем была она в этой комнате. Она присутствовала в этой комнате, чтобы мстить, и так уж получилось, что для мести ей необходим был я. Любовь есть времяпрепровождение буржуазии, сказал я однажды, имея в виду, конечно, просто среднее сословие. А теперь я и сам, значит, влюбился и, таким образом, был произведен в члены того же самого тошнотворно унылого, слипшегося в один сгусток клуба унифицированных автоматов, к которому, как сам же я и уверял, питаю такое отвращение. Пытался задурить себе голову тем, что здесь, дескать, наличествует страсть, однако если это и было бы верно по отношению к ней, то ее страсть направлена была в любом случае не на меня, а на ее страдающего бледной немочью супруга, некоего сооруженного из телятины великана, плешивого, с постоянно включенной ухмылкой на лице, словно он не переставая обносит всех пирожками. Преподаватель нидерландского — что ж, если когда-нибудь потребуется обрисовать представителя данного типа, можно будет взять его за образчик. Обучать детей языку, который они еще задолго до своего рождения слышали в резонирующей камере матки, похабить естественное разрастание этого языка механической болтовней о всяких там порядковых числительных, дублетных формах образования множественного числа, отделяемых глагольных приставках, предикативном употреблении, предложном управлении — еще куда ни шло; но вот выглядеть как недожаренная котлета и притом рассуждать о поэзии — это уж чересчур. А ведь он не только о ней рассусоливал, но еще ее и писал. Раз в каждые несколько лет появлялся тощенький сборничек с сообщениями из провинции его вялой души, беззубые строчки, вереницы слов, дрейфовавших по странице без особой связи друг с другом. Случись им прийти в соприкосновение с одной-единственной строкой из Горация, они рассеялись бы, не оставив и следа.
Выпрямившись, я сел в постели и почувствовал острое желание посмотреть на себя, не оттого, что так уж хотелось узнать, что же там такое увижу, поскольку внешность моя всегда была мне отвратительна, причем вполне заслуженно. Нет, мне требовалось устроить очную ставку. Я должен был знать, какой вариант меня присутствовал здесь, в этой тогдашней комнате, — теперешний или тогдашний. И не знал, какой мне покажется хуже. Спустил одну ногу с кровати, белую стариковскую ногу. Но так мои ноги выглядели всегда, это не давало оснований сделать какие-либо выводы. Оставался лишь один выход: зеркало в ванной комнате — я прямиком к нему и направился, без колебаний, чего, спустя столько лет, можно было бы ожидать. Ну вот я и стоял там. Не знаю, принесло ли облегчение то, что, по крайней мере, не нужно было быть прежним самим собой и что тот, кто стоял там, напротив, все-таки более или менее походил на того, тогдашнего, от которого вчера вечером мне без особого, впрочем, успеха удалось уклониться в моем амстердамском зеркале. Сократ — так прозвали меня в провинциальной гимназии, где я учительствовал, и это было подмечено точно, ибо именно на него я и походил внешне. Сократ без бороды и в очках, то же самое, составленное из комьев лицо, глядя на которое никто и никогда не подумал бы о философии, если бы случайно не было известно, какие слова произносились этими толстыми губами из-под тупого вздернутого носа с вывороченными ноздрями, какие мысли возникали под этим лбом непременного завсегдатая уличных драк. Со снятыми очками, как тогда, было еще хуже.