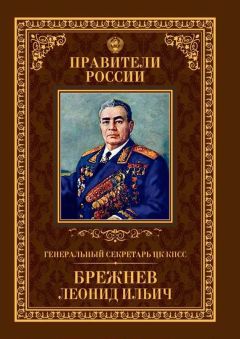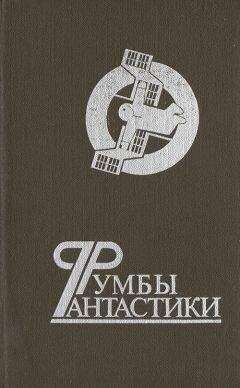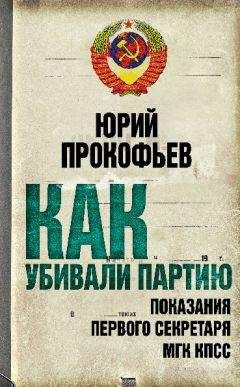Габриэль Витткоп - Хемлок, или яды
Беатриче и Коломба делили ложе с девятилетней дочерью суконщика Пиппой. Укладываясь в постель, Пиппа тотчас опускала жалюзи длинных жестких век. Она притворялась спящей и улыбалась в темноте с закрытым ртом, стараясь не шевелиться, зорко следила за осторожными жестами, шелестом снимаемых рубашек, сближением под одеялом, подслушивала, как два шелковых зверька, раздевшись по обычаю полуночных стран, нежно сплетались и ласково обменивались росой на губах. Это вызывало у Пиппы пылкий восторг, и она мечтала, чтобы и ее допустили к участию в таинствах.
— Почему ты так смотришь на меня, Пиппа? - весело спрашивала Беатриче на перемене.
— Просто так, донна Беатриче... Вы такая красивая...
Однообразие монастырской жизни... Зов колокола. Пение псалмов. Ты правда любишь меня, душа моя?.. Посещения дона Марианно. Синьора Лена, старательно копировавшая Карпаччо и визжавшая от ужаса при виде весело бегущей болонки сестры Кар-мелы. Твои груди подобны голубкам, Коломба. Иногда посетители приносили лубочные гравюры с изображением див дивных, Войны гусей и уток, последствий чумы, казней или чуда святой Катерины. Порой это были брошюры с проповедями, анафемы, налагаемые на содомию и блуд в монастырях. Гости рассказывали, что видели на лунном диске знамения. Что в Трастевере людоедка сожрала пятерых детей. Что умер папа Сикст.
Сыновья Ченчи держали ростовщиков на кончике своих кинжалов. В душных погребках и тавернах все вздрагивали при появлении братьев и, едва заслышав их голоса, разбегались боковыми улочками, прятались под козырьками входных дверей. Ченчи несли на себе то стигматы нищеты, то символы роскоши, одним махом из бедняков превращались в богачей, пусть даже влезая при этом в долги. Они объединялись под знаменем порока. Днем пьянствовали, спали, вздували купцов, а ночи делили между постелями шлюх и игрой в бассету или в совсем уж презренные кости. Завзятым их товарищем по разгулу был кузен - монсиньор Марио Герра, секретарь кардинала Монтальто, носивший сутану, хоть и не посвященный в духовный сан клирик.
Подделав отцовскую подпись, Джакомо выписал вексель на 13000 скудо, а тем временем три десятка кредиторов потребовали с его братьев сумму, достигавшую 16000. Изгнанные отцом Ченчи заняли один из его домов у ворот Рима. Наступил великий голод, и с конца зимы ввели карточки на хлеб. Истощенные, обезумевшие женщины неопределенного возраста настойчиво просили милостыню, дабы прокормить голопузую детвору, закутанную в лохмотья. К прохожим приставали проститутки обоих полов, порой не старше десяти лет. Изо дня в день на улицах подбирали мертвецов, и случалось, один скелет тащил за собой другой. Большинство неимущих прогнали из города, но оставшиеся отчаянно вопили по ночам на перекрестках. Когда в начале весны прибыло зерно из Романьи, вспыхнули мятежи: в Риме назревало восстание.
Богатому Франческо еды хватало, его сыновья добывали себе пропитание угрозами, а слуг оставляли на произвол судьбы. В Мон-течиторио тоже голодали, и одна девочка даже умерла, наевшись свечного воска. Бедствие закончилось только летом.
Франческо дал щедрое приданое внебрачной дочери Лавинии и выдал ее за своего поверенного Эмилио Мореа - беззаветно преданного слугу, которого он держал про запас, соучастника афер, а возможно, и преступлений, после чего Джакомо решил в отместку жениться на своей кузине Людовике Велли. Разгорелась очередная война. Франческо составил новое завещание, отписав сыновьям лишь законный минимум. Прознавший об этом Джакомо осыпал Людовику градом тумаков, тем более что она была бесприданницей, но отцовские алименты по-прежнему уходили на прокорм шлюх и виноторговцев.
Рокко тоже оказался ничуть не лучше, да и Кристофоро вряд ли бы что-нибудь изменил. Хотя все они ненавидели отца, им не под силу было оторваться от породившего их ствола, по венам растекался один и тот же про́клятый сок, сплачивая и отдавая всех троих на откуп истории.
— Но девочки, - робко подала голос служанка, - хоть девочки-то...
Ее подруга отвлеклась от чистки тазиков и, отбросив сальной рукой упавшую на лицо прядь, посмотрела на говорившую в упор:
— Ты же знаешь, яблоко от яблони недалеко падает...
***
Мой отец таким не был. Возвращение вспять. И вот приходится доставать детство из глубин, поднимать его с темного дна, но ведерце качается, переливается через край, продрогшее детство облепляют паразитическая пена и загнивающий ил. Нужно выдать на-гора далекое прошлое, еще более далекое прошедшее детство.
— Я немного похожа на него, - говорит Хемлок, самодовольно касаясь своей иссиня-черной шевелюры, ниспадающей по обе стороны гладкого лица. Ей двадцать пять.
— Расскажи, - просит X. Оба еще так молоды.
Хемлок раскачивается с каким-то глуповатым удовольствием. Ей очень нравится говорить об отце, хоть она и знает, что нельзя описать того, кого любишь.
— Взять, к примеру, тебя, X... Я даже пытаться не стала бы. Мы так часто повторяем, что истина - часть речи, обойденная молчанием. Что же ты хочешь от меня услышать?.. Налей-ка мне выпить...
Но через пару минут Хемлок уже вспоминает то время, когда она любила пить после него из стакана, как совсем еще крошкой кусала в шутку его за руки, как он рассказывал историю о Геркулесе, несшем на спине двух парнишек, которые смеялись над его черной задницей, историю Человека в железной маске и историю маркизы де Бренвилье. Вспоминает, как, повествуя о папаше Убю, он даже напевал песенку Молотил, очень забавно подрыгивая ногой. У него была смазливая мордашка и здоровые зубы, он закладывал за воротник, обожал женщин, с воодушевлением цитировал классиков. Он был человеком очень слабым, инфантильным, но отличался эгоизмом здорового животного. Зачастую эгоисты отдают очень много, сами того не замечая. Тем не менее, детство Хемлок было грустным, одиноким, пусть и особенным - в общем, именно таким, как надо. Отца Хемлок видела очень редко. Она не в силах забыть материнскую неприязнь, а он сам почему-то всегда напоминал что-то тяжелое, серое, холодное, как свинец. Неприязнь усиливалась, когда она заболевала и ощущала себя брошенной вещицей на пустыре, валяющейся в зарослях мяты и цикуты.
— Налей-ка мне выпить, X., пожалуйста...
Булькает вино. В открытое окно влетает пение дрозда, большой квадрат солнечного света касается края ковра, раскрывая там, точно глаз, шерстяную розу. Внезапно у Хемлок возникает полная уверенность, что когда-нибудь она вспомнит это мгновение во всех подробностях, и она действительно вспоминает его сорок два года спустя.
***
У Беатриче болели зубы, и всякий раз приходилось ходить за помощью в лазарет к сестре Кларе - совсем юной крестьянке с фиолетовыми глазами. Она колдовала над мягчительной мальвой, мочегонным укропом, кровоочистительными листьями малины, смягчающим бадьяном, рвотной чемерицей, которую следовало принимать с осторожностью, над укрепляющим десны, улучшающим память и отгоняющим злых духов розмарином. Беатриче почти всегда заставала ее одну, словно сестра Клара только ее и ждала, стоя перед горшками с желтыми и синими цветами, под свисавшими с балок пучками лекарственных трав, словно осенявшими ее балдахином, над которым сквозняки поднимали облачка пыли. Невзирая на приятное обхождение, сестра Клара почему-то внушала страх. Она говорила, что некоторые травы нужно собирать в полнолуние, но вместе с тем досадовала, что священное правило запрещает ходить по ночам за шершавыми или бархатистыми серенькими цветочками, что распускаются у самой земли или прячутся под листьями других растений. Порой она улыбалась и закрывала глаза, проходя мимо горшочков, где мокла рыжевато-белая масса. Даже изо рта у нее пахло бородачом, темной мятной свежестью, а еще утоляющим боль и вызывающим сновидения антидотом. Он-то и спасал при зубной боли.
— Самое главное - не ложись щекой на перьевую подушку, - говорила сестра Клара, когда послушница впорхнула в лазарет привлеченным цветами мотыльком.
— Зубная боль - это любовный недуг...
— Нам знакома лишь любовь Божья, а она - сама доброта, -удивленно сказала сестра Клара, и Беатриче тихонько заплакала.
Она обо всем узнала в тот самый день, когда дон Франческо призвал своих дочерей. Беатриче уже видела серо-желтые стены палаццо, слышала, как гремят по плитам пьяные шаги, как разносится по галереям рев, как часто и гулко сыплются удары.
Послушница поглядела на нее с хитрецой.
— Придется вырвать зуб, - сказала сестра Клара.
Беатриче застенчиво объяснила собственные слезы зубной болью и вышла из лазарета, прижимая к щеке тряпочку. На лестнице она столкнулась с сестрой.