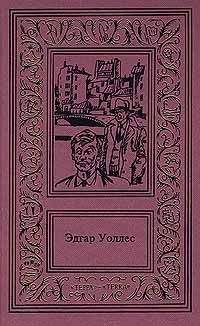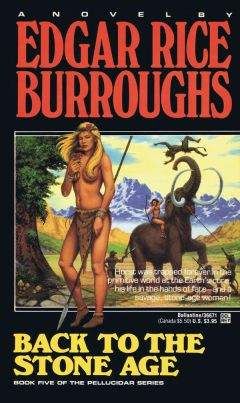Антонио Муньос Молина - Польский всадник
Врач до сих пор дрожал от дорожной тряски. Через маленькую дверь его провели в коридор, а затем на лестницу с каменными неудобными ступеньками, видимо, предназначенную для прислуги. Потом он почувствовал под ногами мраморные плиты и услышал за большим закрытым окном звуки оркестра, игравшего стремительный вальс.
– Еще немного, – прозвучал рядом с ним голос, – мы почти пришли.
Его заставили остановиться и он, интуитивно, определил, что находится перед закрытой дверью. Человек в полумаске трижды размеренно постучал, дверь открылась, и донесся запах дешевых духов и женский голос. Врача провели внутрь комнаты, и в тот же момент, когда дверь за ним закрылась, он услышал тяжелое дыхание, похожее на сопение животного. Когда мягкие пальцы человека коснулись его затылка, развязывая узел полумаски, он почувствовал, как вдоль спины побежали мурашки. Вот тогда он действительно испугался – не умереть, а увидеть что-то, ослепившее бы его сильнее, чем неожиданный свет. Он находился в комнате с низким потолком, освещенной двумя светильниками, – комнате служанки: перед ним стояла железная кровать, где под простынями металось, изгибалось и корчилось тело, четкие очертания которого врачу не сразу удалось различить – он еще не освоился на свету и стоял напуганный, неподвижный, не видя, что человек в полумаске протягивает ему его медицинский чемоданчик. Он воспринимал все так фрагментарно, будто видел отражения в осколках разбитого зеркала, расфокусированные и искаженные абсурдной линзой: руки, бледные и длинные, сжимающие ледяные поперечины кровати, прозрачные запястья, ноги со спущенными до щиколоток чулками, дергавшиеся и сбрасывавшие на пол постельное белье, блестевшие от ужаса голубые глаза с падающими на них черными прядями, свалявшимися и темными от пота, лицо без губ, дыхание, вздувавшее и увлажнявшее платок, повязанный поверх рта, огромный, раздувшийся живот под изодранной в клочья ночной рубашкой – живот без пупка, содрогавшийся и выпуклый, блестящий от пота, но прежде всего глаза, смотревшие на него с ужасом, более красноречивым, чем крик, голубые виски и руки, вцепившиеся в поперечины кровати, с вонзившимися в ладони мертвенно-бледными ногтями, покрытыми кровью, менее темной, чем та, которая текла по ногам женщины и заливала простыни. Врач говорил Рамиро Портретисту, что первый раз в жизни принимал роды, и, когда его привели туда, было уже слишком поздно: через час, валясь с ног от усталости, измученный, с голыми руками, по локоть измазанными кровью, как у мясника, он извлек из этого судорожного живота фиолетовое тельце ребенка, задушенного пуповиной.
*****Я различаю эхо каждого дверного молотка на площади Сан-Лоренсо так же ясно, как голоса и лица соседей: различаю звук их ударов в каждую из дверей и даже особую манеру, с какой стучат мужчины и женщины, родственники или незнакомцы, нищие, молочники или продавцы, я также знаю, как звучат удары беспокойства или страха в ночной тишине, вызывая в доме шум пробуждения и быстрые шаги по лестницам или напряженное молчаливое ожидание в спальне, где еще не зажгли свет. Мне не нужно выглядывать на улицу, чтобы догадаться, в чью дверь стучат. Я узнаю мощный резонанс дверного молотка Бартоломе – по звонкости своего звучания он кажется мне золотым, потому что это самый богатый человек на площади: он владеет большими оливковыми рощами, и погонщики мулов разговаривают с ним не поднимая головы, когда он принима-ет их на террасе, развалившись в своем кресле из ивовых прутьев, с прикрытыми глазами без ресниц, делающими его похожим на сонную ящерицу, с мокрым окурком сигары, свисающим изо рта, и двойным подбородком. Я слышу слабые удары маленького дверного молотка Лагунаса: он такой же хилый, крикливый, суетливый и неясный, как его бабий голос; сильные и суровые удары дверного молотка моего дома, которые по своему достоинству соответствуют росту и голосу моего отца: их эхо доходит до глубины скотного двора и отчетливо отдается в фасаде Дома с башнями; глухой звук дверного молотка в соседнем доме на углу: он почти всегда безмолвствует, потому что там никто не живет уже много лет, с тех пор как слепой Доминго Гонсалес, самовольно поселившийся там в конце войны, ушел, окончательно обезумев от темноты и страха, и обосновался на одной из заброшенных станций возле реки.
Мне кажется, что я слышу стук дверных молотков в тихом воздухе площади – своеобразные металлические голоса среди щебетания девочек, которые поют песенки, прыгая через скакалку, и воплей мальчишек, играющих в ронго, тите-и-куарта, мочо, пиа майса, в зависимости от времени года, потому что каждый сезон приносит свои собственные игры и даже рассказы и страхи: боязнь больных туберкулезом, когда в ночи горят костры святого Антона, сбежавших из приюта, обезглавливающих собак и забрасывающих детей камнями, невидимое присутствие тети Трагантии, поющей за углом свой призыв смерти в ночь накануне Дня святого Хуана, призрак из Дома с башнями, чье лицо я столько раз представлял во время бессонных ночей в детстве, я увидел почти тридцать лет спустя на одной из фотографий сундука, который майор Га-лас взял с собой в Америку и, возможно, никогда не открывал. Мы не только повторяли песни и игры наших предков, но и были обречены повторять их жизни: в нашем воображении и словах жил тот же страх – они невольно передали его нам с самого рождения. Удары дверного молотка в форме кольца в большие запертые двери Дома с башнями звучат в моем сознании так же, как и в детской памяти матери, возвращая ее к майскому утру, когда она увидела, как по улице Посо сначала проехала телега Маканка, возившая умерших не по-христиански, а потом черный экипаж врача дона Меркурия, запряженный конем Бартоломе и кобылой Вероникой и управляемый молодым кучером в зеленой ливрее – Хулианом, которого я знал уже лысым таксистом-геркулесом иногда бравшим нас с собой в столицу провинции – туда, где были очень высокие здания, слепые в темных очках на углах улиц и врачи с зеркалами на лбу, привязанными кожаными ремешками.
Моя мать шила в прихожей, рядом с закрытой дверью, в полумраке, пахнувшем, как тополиные листья после дождя, и слушала без зависти, со смутным чувством отчужденности, голоса девочек, прыгавших через скакалку на площади; и вдруг, почти не осознавая этого, поняла, что все смолкло и голоса заглушил металлический грохот и стук открывающихся ставней на улице Посо. Железные колеса подскакивали на мостовой, а хлыст кучера щелкал в воздухе, но не мог заставить двигаться быстрее сонную мулицу, тащившую зловещую тележку, чье необъяснимое имя, Маканка, уже в самом себе таило угрозу, как и другие имена и слова, которые моя мать слышала, не понимая их значения, но зная, что они неотвратимо приносят несчастье. Она подумала, что, может быть, Маканка привезла мертвое тело отца, убитого или умершего от голода в том месте, которое ее дед Педро Экспосито называл концентрационным лагерем: сама она представляла его как пустую равнину, окруженную колючей проволокой, где отец, словно неприкаянная душа, бродил среди бесплодных оливковых деревьев, в военном плаще и разорванной голубой форме штурмовой гвардии. Он, казавшийся героем на фотографиях и выдумывавший про себя невероятные истории без малейшего желания обмануть, стал жертвой своей неисправимой наивности, часто граничившей с глупостью и безумием. Субботней ночью в конце марта вражеские войска заняли Махину, а на следующее утро, ни на кого не обращая внимания, дед Мануэль надел свою парадную форму и спокойно отправился в больницу Сантьяго, потому что была его смена на дежурстве. Едва добравшись до места, он увидел, что на фасаде развевалось другое знамя; его арестовали, и вернуться он смог лишь два года спустя. Мой дед был человеком слова и всегда выполнял свой долг, поэтому, не получив отмены приказа, он должен был предстать на своем посту в восемь: надев слегка набок форменную фуражку, застегнув до самого верха пуговицы мундира, казавшиеся моей матери золотыми, он спокойно вышел на улицу и помахал дочери на прощание рукой, прежде чем завернуть за угол. Это случилось холодным и туманным мартовским утром, казавшимся ей очень далеким, потому что она еще не научилась измерять время, делить на недели, месяцы и годы статичную вечность, без примеси детской субъективности.
– Мануэль, неспроста у тебя такая большая голова, – сказала Леонор Экспосито, провожая его на пороге, а прадед Педро, почти всегда молчавший, погладил мою мать по щеке, вытерев ее слезы, и прошептал ей на ухо тем же тоном, каким разговаривал со своей собакой:
– Доченька, твой отец совсем свихнулся.
Она оставила шитье на стуле, но не осмелилась выглянуть на улицу – не только из-за того, что боялась Маканки, но и потому, что мать настрого запретила ей открывать дверь. Такова была вся ее жизнь в последние годы, с тех пор как она себя помнила: вымощенные прихожие, комнаты в полумраке, закрытые двери, за которые нельзя выглядывать, фантастические голоса на улице, где подстерегало множество опасностей – бомбардировка, стрельба, бегущие толпы мужчин и женщин, кричавших и потрясавших кулаками и оружием, незнакомцы, предлагавшие девочкам карамельки или носившие на плече мешок, может быть, с отрезанной головой, бродяги, дезертировавшие солдаты, арабы, спускавшиеся на закате к источнику возле стены, чтобы стирать свои одежды, танцуя на них черными босыми ногами, а потом становившиеся на колени на расстеленном коврике, воздевавшие руки к небу и простиравшиеся ниц, крича что-то на тарабарском языке – так они молились. Моя мать, услышав звук металлических колес, не устояла перед искушением приоткрыть занавески на окне, выходившем на улицу Посо, именно тогда, когда мимо проезжала телега в форме гроба, с таким же точно заслоном в задней части, каким закрывают печи. Ею правил бледный человек, с лицом чахоточного или возвращенного кжиз-ни повешенного: он подскакивал на облучке, держась правой рукой за перекладину, а левой размахивая кожаным кнутом и с бесполезным остервенением хлеща им по костлявым бокам мулицы. Когда кто-нибудь кончал жизнь самоубийством, за его телом, вместо траурного экипажа из похоронного бюро, приезжала жалкая телега Маканка, отвозившая труп не на христианское кладбище, а по другую сторону ограды без крестов, где хоронили убитых. Маканка появлялась также во время эпидемии, когда совершалось преступление или в водосточной канаве находили труп и было неизвестно, что это за человек и исповедался ли он перед смертью. Поэтому появление телеги на площади Сан-Лоренсо считалось дурным знаком: мгновенно онемев, моя мать слушала стук колес, копыт мулицы, щелканье кнута, будто они уже звучали внутри ее дома; потеряв голову от страха, загипнотизированная и отчаявшаяся, она наконец осмелилась выглянуть на улицу, воображая, что телега остановится перед ее дверью, кучер натянет поводья и, спустившись с облучка, устремит на нее свои мертвенные глаза, в которые ни она, ни кто-либо другой не осмеливались глядеть. Но телега не остановилась, и теперь мать смотрела на нее сзади: длинный катафалк, выкрашенный в черный цвет, ехал мимо тополей и закрытых дверей по пустой площади и наконец застыл, скрипя ржавыми колесами, у крыльца Дома с башнями, под рельефом, изображавшим закованных в цепи гигантов, поддерживавших стершиеся гербы, и фигурными водосточными желобами, раскрывавшими над навесом крыши свои ненасытные пасти. Она увидела на площади приоткрытые окна и любопытные лица женщин, переговаривавшихся знаками с балконов. Ее мать, Леонор Экспосито вышла из кухни, вытирая красные руки о передник, сердито взглянула на нее и, взяв за руку, заставила вернуться в прихожую, закрыв дверь так поспешно, будто ревели сирены и нужно было как можно быстрее прятаться в погребе. Тогда моя мать побежала искать деда Педро: как она и предполагала, тот сидел во дворе рядом с колодцем и гладил по спине свою облезлую от старости собаку, наверное, рассказывая ей вполголоса истории о войне на Кубе и глупости сво-его зятя, который, вместо того чтобы избавиться от формы и спрятаться на время, как сделали многие, или надеть голубую рубашку и приветствовать войска арабов и добровольцев на улице Нуэва, натянул белые перчатки и парадный жандармский мундир, чтобы с должным достоинством быть арестованным и заключенным под стражу новыми властями.