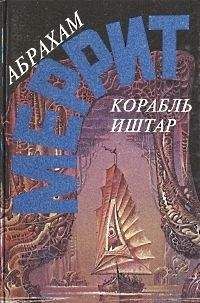Белобров-Попов - Русские дети (сборник)
Я не боролся со страхом, потому что не знал как. Просто терпел его. Лежал в кровати, слушал, как родители в своей комнате разбирают диван, о чём-то говорят и папа смеётся, а мама просит: «Тише, мелкий же спит».
Больше всего на свете хотел побежать к ним, крикнуть: «Заприте меня в комнате, не отпускайте к Наташке на чердак!» И точно знал, что не сделаю этого. Раньше со мной не случалось ничего подобного — чтобы так сильно хотеть и всё равно не делать. И не потому, что запретили, а просто — сам решил. Моя воля оказалась сильнее страха, и это, конечно, была потрясающая новость. Такого я о себе прежде не знал.
И когда я шёл на цыпочках по коридору, а потом осторожно, очень медленно, чтобы не звякнула, открывал задвижку, мне уже не было страшно. Наверное, именно в таких случаях и говорят: «Я победил». Но подобными категориями я тогда, конечно, не мыслил.
По лестнице я тоже поднимался на цыпочках. Аккуратно перешагнул самую скрипучую ступеньку, толкнул чердачную дверь. Было совсем темно, но Наташку я увидел сразу, хотя она сидела в самом дальнем углу. А может быть, не увидел. Просто знал, что она там.
— Если бы не твои ириски, я бы уже заснула, — шёпотом сказала Наташка. — Ужасно трудно так долго ждать! Но я их ела и сочиняла сказки, по одной на конфету. Я потом тебе расскажу.
— Когда — потом? — удивился я. — Мы же сейчас в звёзды превратимся!
— Ну правильно. Думаешь, звёзды не рассказывают друг другу сказки? Да они только этим и занимаются. Вот увидишь.
В принципе, это была отличная новость. Сказки я любил больше всего на свете.
Мы залезли на крышу, и Наташка, прижимавшая к груди картонную коробку с пылью, пеплом, битым стеклом, кукольными глазами, горохом и моим морским песком, сказала:
— Когда я развею всё по ветру, надо будет сказать заклинание. Оно такое: «Трульнгугунгунгук». Запомнишь? Это очень важно! Если скажешь неправильно, ничего не получится.
— Труль… чего? — ошеломлённо переспросил я.
Вот уж не думал, что просто не сумею выговорить волшебное слово. Теперь, когда я перестал бояться, это было бы очень обидно.
— Трульн-гу-гун-гун-гук, — повторила Наташка. — Пожалуйста, не перепутай и не запнись. Глупо получится, если только я одна превращусь. Не хочу быть звездой без тебя. Ты же мой лучший друг.
Я долго молчал, потрясённый её признанием. А потом твёрдо сказал:
— Я не перепутаю. Трульнгугунгунгук.
Само выговорилось, как по маслу, многочисленные «н» и «г» выкатились из горла мелкими камешками. Прежде я и не подозревал, что звук может быть твёрдым, тяжёлым, скользким и прохладным, как будто всю жизнь пролежал под землёй, а теперь его выкопали и положили в меня.
— Ты молодец, — обрадовалась Наташка. — Из тебя получится очень хорошая звезда, вот увидишь.
Я теперь тоже так думал.
Мы уселись на самом краю крыши, и Наташка как-то очень долго возилась с коробкой, которую заклеила липкой лентой, чтобы ничего не просыпалось, а теперь никак не могла отодрать. Звёзды смотрели на нас сверху с любопытством и нетерпением — дескать, что же вы тянете, давайте!
— Приготовься, — наконец сказала Наташка. — Когда я тебя стукну, надо сразу говорить заклинание.
И перевернула коробку. Я, помню, ждал хоть какого-то шума, по крайней мере, пуговица и монетки должны были звякнуть, упав на тротуар. Но вокруг стояла тишина, такая полная, словно звуки отменили вообще, ну или просто я оглох, сам того не заметив. Теперь я думаю, это просто остановилось время, и мы сидели на крыше то ли вечно, то ли вовсе никогда.
Строго говоря, я до сих пор там сижу — в каком-то смысле. Который и есть единственный.
А потом время снова пошло, Наташка чувствительно стукнула меня кулаком по плечу, и я громко, совершенно не думая, что могу перебудить весь двор, начиная с собственных родителей, заорал: «Трульнгугунгунгук!» Но Наташкин голос всё равно звучал громче, так что себя я почти не услышал. Однако не сомневался, что произнёс заклинание правильно. Волшебное слово вылетело из меня само, я только рот открыл.
И тогда в животе стало горячо, а в голове светло, как будто там зажёгся яркий белый бенгальский огонь, и я подумал — всё, превратился. И несколько секунд, часов или лет прислушивался к новым ощущениям — каково оно, быть звездой?
Но всё это, конечно, просто от волнения. В какой-то момент я обнаружил, что по-прежнему сижу рядом с Наташкой на крыше и вокруг тёмная-тёмная ночь, только горит, мигая, бледный лиловый фонарь у калитки да звёзды на небе. Так много звёзд! Но мы — всё ещё не они.
— Я поняла, в чём дело. Просто это срабатывает не сразу, — сказала Наташка. — А как бомба замедленного действия. Знаешь, как в кино? Все про неё уже забыли, и вдруг — ба-бах! Интересно, сколько надо ждать?
А я молчал. Слишком велико было потрясение. И разочарование. И радость, что можно ещё побыть нормальным человеческим человеком. И ещё много разных чувств, описать которые я и сейчас-то вряд ли сумею.
— Плохо, что меня теперь запрут дома, — сказала Наташка. — И будет страшный скандал. Терпеть не могу, когда орут. Но зато мы с тобой уже всё сделали. И это нельзя отменить. А значит, мы обязательно превратимся в звёзды. Это может случиться в любой момент. Когда угодно, без предупреждения. Хоть в школе, хоть в бассейне, хоть в новогоднюю ночь. У всех на глазах! Представляешь, как они удивятся? И как удивимся мы. Так интересно будет теперь жить!
Я кивнул. Ещё как интересно. Жить вообще невероятно интересно, потому что вообще всё, что угодно, может случиться в любой момент. Причём даже с тем, кто никогда не выкрикивал волшебные заклинания на крыше. С каким угодно человеком, если ему повезёт. А уж с нами-то теперь — и подавно.
Вот о чём я тогда думал, но ничего не говорил, потому что не знал нужных слов. Собственно, до сих пор не знаю.
— Раз ещё не превратились, надо мне идти домой, — сказала Наташка.
— Ты что?! Темно же. И далеко. И трамваи не ездят.
Это было первое, что я сказал. Потому что очень за неё испугался. Это, конечно, Наташка, она храбрая и всё может, я знаю. Но идти одной, ночью, пешком через весь город — даже для неё как-то слишком.
— Ай, — отмахнулась она, — подумаешь! Ночь — ну и что? Я же знаю, в какую сторону идти. И фонари везде горят. А если привидение встречу, только обрадуюсь. И попробую с ним познакомиться.
— А если бандита?
— Да они уже, наверное, давно спят, — сладко зевнула Наташка. — Или банк грабят. Ну так я мимо банка и не пойду.
Всё равно мне не хотелось её отпускать.
— Давай я пойду с тобой.
— Тогда и тебя заругают. И запрут дома до осени.
— Ну и пусть, — упрямо сказал я. — Если ты всё равно не будешь приезжать, можно и дома сидеть. Зато сейчас вместе погуляем. К тебе, наверное, долго надо идти?
— Наверное, — согласилась Наташка. — Может быть, аж до утра. Я ещё никогда не ходила. Но даже ехать почти целый час.
Я очень хорошо помню, как мы сидели на крыше. Каждую минуту, каждое произнесённое слово, и как Наташка чесала коленку, засунув руку под штанину. И как подала мне руку, чтобы помочь вскарабкаться наверх, к чердачному окну. И как я вдруг очень по-взрослому подумал: «Дружба — это когда у тебя две жизни вместо одной. И обе одинаково важные. Какая разница, где чья». Но говорить вслух почему-то постеснялся.
Зато почти не помню, как мы шли через ночной город. Мы оба очень хотели спать, хоть под кустом ложись или на лавку в парке. Но всё равно шли, и мне снились какие-то удивительные сны, прямо на ходу, но их я, конечно, забыл.
Когда мы добрались до Наташкиного дома, было совсем светло. И её родители, наверное, увидели нас с балкона, потому что выскочили навстречу, в подъезд. И тогда я сказал с самого начала заготовленную фразу: «Это я виноват. Я её подговорил». А потом лёг и заснул, прямо на лестнице. Слышал сквозь сон, что меня несут на руках, хотел сказать свой адрес, но не мог выговорить ни звука. И мне было всё равно.
Проснулся я уже дома, в своей кровати. Рядом на стуле сидел папа. И лицо у него было совсем не сердитое, а грустное и растерянное. Таким я его ещё никогда не видел.
— Что ты проснулся, это очень хорошо, — сказал папа. — А что из дома ушёл среди ночи без спроса — просто ужасно. Совершенно от тебя не ожидал. Что у тебя теперь температура — это вообще безобразие. У нас с тобой мама на кухне уже целый час плачет, и что прикажешь делать?
Я молча пожал плечами — дескать, не знаю. Ну и потом, что-что, а температуру я себе нарочно не повышал, в этом смысле моя совесть была совершенно чиста.
— Твоё путешествие ночью через весь город — это уже какой-то запредельный кошмар, — продолжил папа. — Страшный сон любого родителя. Хоть на цепь тебя теперь сажай до шестнадцати лет, чтобы точно никуда не сбежал.
«На цепь» — это, конечно, звучало ужасно. Но выглядело, с моей точки зрения, вполне справедливо. Так что я даже защищаться не стал. Просто не нашёл достойных аргументов.