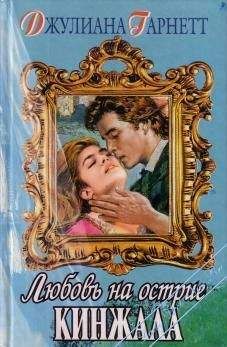Джон О'Хара - Жажда жить
— Не знаю, право, а Грейс пьет?
— Да.
— Что ж, в таком случае и я попробую.
— Капитан?
— Как насчет шотландского с содовой? Не слишком обременительно?
— Ничуть. Хэм?
— То же, что и вы, Сидни.
— Со льдом, капитан? — спросил Сидни.
— Ага, вижу, вы бывали в Англии.
— Дважды.
— Правда?
— По-моему, вы там провели медовый месяц, Сидни, верно? — спросила Юдит.
— Нет, просто у меня там есть родственники, я ездил навестить их еще до женитьбы.
— Но жить решили все же в старых добрых Соединенных Штатах, а, друг мой? — спросил Смоллетт.
— Но я же американец, капитан. Здесь мой дом. Ну что ж, господа, пусть враг будет повержен, за это?
— Хорошо сказано, — согласился Смоллетт. — Теперь, когда и вы, ребята, с нами, мы живо поставим на место господина Гогенцоллерна.
— Кого? A-а, кайзера, — сказала Юдит.
Все выпили. В холл вошла Грейс и, поприветствовав гостей, заговорила:
— Думаю, все будет в порядке. Бедняжка Кэтти, сейчас ей не столько больно, сколько неловко. Ей хочется побыть одной. — Грейс повернулась к Смоллетту. — Девушка входит в наш молодежный комитет, а мать у нее очень строгая, она не хотела, чтобы Кэтти вообще имела дело с этим фестивалем, потому что на лето миссис Гренвилл со всей семьей уехала из города, но девочка упросила ее разрешить остаться до завтра. Надеюсь, Кэтрин Гренвилл ничего не узнает, иначе на всех шишки посыпятся — на Красный Крест, на нас, на немцев, да и на англичан, коли на то пошло, тоже.
— Миссис Тейт, во мне можете не сомневаться, — поклонился капитан Смоллетт. — Если даже мне попадется эта… как вы ее назвали… миссис Гренвилл, слова не скажу.
Появились О’Брайаны, и, церемонно раскланявшись, Грейс обратилась к доктору:
— У нас возникло кое-что по вашей части, доктор. Ничего серьезного, но, когда я скажу вам, о ком идет речь, все станет ясно.
Доктор сразу же последовал за Грейс, и, пока их не было, подошли оставшиеся гости. Мужчинам были поданы напитки, дамы решили воздержаться. Вскоре вернулась Грейс с доктором О’Брайаном, и все вышли на крыльцо. Ужин прошел отлично, вслед за ним последовало охлажденное пиво, а там дошло время и до пиротехники. Капитан Смоллетт уехал спальным вагоном — ему надо было подготовиться к завтрашнему выступлению в Огайо; остальные гости, кроме Шофшталей, тоже рано разошлись по домам. Шофштали же пробыли еще час, и за это время успели вернуться и пожелать всем доброй ночи дети. Фестивальная публика рассеялась, один за другим гасли огни, вскоре под музыку «Как хорошо быть дома» кончились и танцы. Какое-то время еще доносились громкие голоса мужчин, перебравших пива, но потом и они умолкли, и на ферме наступила тишина. Сидя на крыльце, Сидни и Грейс увидели, как двое полисменов закурили сигареты и сдвинули шляпы на затылок.
— Верный знак, что все кончилось, — заметил Сидни. — Они всю ночь будут торчать здесь, на страже.
— Да? В таком случае пошли спать. Загляну только к Кэтти, проверю, как там она. — Сидни и Грейс двинулись наверх. Грейс зашла в гостевую комнату, а Сидни постелил постель. Он уже лежал в кровати, листая журнал «Эврибади», когда в спальню вошла жена.
— В чем дело? — спросил он. — Ей что, хуже?
Грейс остановилась посреди комнаты.
— Ей будет становиться хуже изо дня в день, и так до самого декабря. Она беременна.
— Беременна? Эта девочка беременна?
— Да. Не знаю, заметил это доктор О’Брайан или нет. Я была в коридоре, пока он ее осматривал. Сейчас-то у нее сна ни в одном глазу, лежит и смотрит прямо перед собой. Я спросила, как она, и девочка сказала, что надеялась, что я зайду, она мне доверяет. И потом во всем призналась.
— А кто отец, сказала?
— Нет, а я не спрашивала. Сказала только, что он в армии и скорее всего они больше не увидятся. Завтра она едет на Кейп-Код, все расскажет матери, а там, говорит, будь что будет. — Грейс села в кресло. — Какой кошмар!
— А что, она места себе не находит? Уж не подумывает ли о самоубийстве?
— Да нет, вроде вполне спокойна. Признается матери, а та, если надо, до президента Вильсона дойдет, пусть выясняет, кто отец ребенка. А Кэтти, наверное, отошлет куда-нибудь на запад.
— Но ведь она действительно может доверять тебе, Грейс, верно?
— Да. — До этого она не смотрела на него, но в тот момент повернулась.
— Она знает, что может верить, — настойчиво продолжал он.
— Да, она должна так думать, — сказала Грейс.
— Без меня уж здесь будет не так, правда? Но как только я уеду, ты будешь, как раньше, спрашивать себя, что мне известно и о чем я догадываюсь, а, Грейс? — Сидни повернулся к ней спиной и подоткнул под плечо одеяло. — Покойной ночи, старушка.
— Боже мой, — прошептала она.
Больше Грейс не сказала ни слова, и час, а может, два молча смотрела на мужа, пока не убедилась, что он спит. Тогда ей пришло в голову, что если он может спать, то, стало быть, то, что знает, знает давно, только ничего не говорит, ничего не делает.
Глава 2
Грейс Брок Колдуэлл, единственная дочь Уильяма Пенна и Эмили Брок Колдуэлл, родилась 29 апреля 1883 года на ферме Колдуэллов в округе Брок, неподалеку от Бексвилла, графство Несквехела (не путать с Бексвиллом, графство Шайлкилл). Таким образом, ей было двадцать лет, когда 2 июня 1903 года она вышла замуж за Сидни Тейта, уроженца Нью-Йорка. Свадьбу сыграли на ферме Колдуэллов.
Сидни Тейт, единственный сын Альфреда Тейта и Анны Хэрмон Тейт, родился 16 марта 1877 года в Нью-Йорке. Поженились они с Грейс через десять месяцев после помолвки, а знакомы к тому времени были около двух с половиной лет.
Отец Сидни Альфред Тейт родился в Лондоне, но еще совсем в юном возрасте переехал в Америку. Он состоял в отдаленном родстве с сэром Генри Тейтом, основателем Национальной галереи английской живописи, но, как сам же Альфред Тейт первым и признавал, родство было и впрямь седьмая вода на киселе, так что он даже не трудился заглядывать в метрики, а когда услышал о филантропической деятельности сэра Генри, масштабы которой были действительно внушительны и становились все больше, было уже поздно, как опять-таки говорил сам Альфред Тейт, заявлять какие-либо претензии на родственные связи. К тому же ни в какой финансовой помощи со стороны сэра Генри Альфред Тейт не нуждался; его отец сколотил приличное состояние на торговле текстилем, которое Альфред многократно умножил в результате банковских операций. Таким образом, по смерти матери в 1908 году, которая последовала через два года после кончины Альфреда Тейта, Сидни унаследовал 800 тысяч долларов — целое состояние, которым распоряжалась его мать. Оно включало, помимо всего прочего, дом на Тридцать седьмой улице Нью-Йорка, оцененный в двадцать две тысячи долларов, и коттедж на Лонг-Айленде. То и другое было выставлено на продажу и принесло неплохой доход, во всяком случае, превышающий первоначальную оценку.
Новость о том, что Сидни стал наследником миллионного состояния, быстро разнеслась по Форт-Пенну и способствовала — хоть он о том и не подозревал — весьма значительному укреплению его репутации. Если не считать узкого круга близких друзей Сидни и Грейс, в городе бытовало мнение, что она вышла замуж за бедняка, либо охотника за деньгами, либо за того и другого сразу. Но восемьсот тысяч, считай миллион, — это, как говорится, не кот начихал, так что общественное и материальное положение Сидни изменилось в мгновение ока. Колдуэллы считались одними из самых состоятельных людей графства Несквехела и вообще всего штата, если не считать Питсбурга и Филадельфии, но должно было пройти немало времени перед тем, как их состояние было оценено более или менее точно, после чего иные утверждали, что Колдуэллы стоят пять миллионов, другие — что пятьдесят, а третьи говорили, что им нечем расплатиться по счетам. Но добрые люди графства Несквехела точно знали, что у Сидни есть миллион.
Те немногие, что могли судить о сравнительном богатстве Грейс и Сидни со знанием дела, говорили на эту тему только между собой. Не более десятка банкиров, адвокатов и их ближайших сотрудников знали, как обстоят дела в действительности, остальные же могли лишь с большей или меньшей долей вероятности предполагать, что состояние Колдуэллов исчисляется суммой порядка миллиона долларов. Слухи, будто Тейты не способны платить по счетам, имели некоторое основание: Тейты действительно не оплачивали счета, по крайней мере не каждый месяц. Они оплачивали их поквартально, что было типично для многих состоятельных семей и в Америке, и за границей. Векселя погашались с прибыли, наличные были нужны только беднякам и людям, попавшим в стесненные обстоятельства. Такая система была удобна Тейтам еще и потому, что оставляла время на упорядочивание их довольно сложной бухгалтерии: деньги Сидни шли на оплату счетов по дому, школу и уход за детьми, а также на его личные расходы. Грейс платила за содержание фермы, новую технику, покупку скота и так далее, ну и опять-таки за собственный гардероб и драгоценности. Через пять лет после женитьбы ферма под руководством Сидни, который стал кем-то вроде надсмотрщика, начала приносить небольшой доход. За эту работу он получал символическое вознаграждение — один доллар в год, — что, по его словам, позволяло считать себя профессионалом. Впрочем, фермеры, наемные рабочие и производители сельскохозяйственной техники, с которыми Сидни вел дела, не нуждались в этом символическом чеке на один доллар как подтверждении его профессионализма. Они подсмеивались над его акцентом и бриджами, в которых он разъезжал по полям, но никому еще не удавалось провести его дважды. Как-то раз он поймал типа, который годами обворовывал Грейс, ее брата и их отца. Это был управляющий по имени Фауст, ферма брата которого, в южной части графства Несквехела, целиком, от навозоразбрасывателя до электростанции, содержалась на деньги Колдуэллов. Сидни упрятал Фауста под замок, но Грейс уговорила его не предъявлять обвинения (в данном случае в краже сепаратора), но не столько потому, что терпеть не могла бюрократической канители и шума, сколько потому, что от длинного перечня наворованного у ее старшего брата Брока Колдуэлла буквально голова пошла кругом. В общем, Фауст выдал Сидни долгосрочную расписку, разрешавшую отработать ее на ферме брата, а не в исправительном учреждении. За какие-то две недели эта история стала известна всем фермерам в северной части графства, и все они должным образом оценили и практичность Сидни, каковой он действительно обладал, и сострадательность, которой у него не было вовсе.