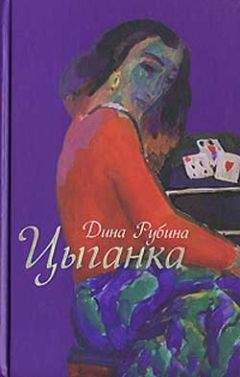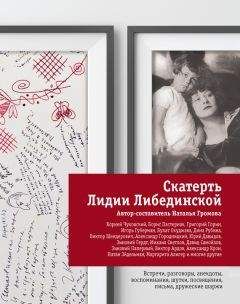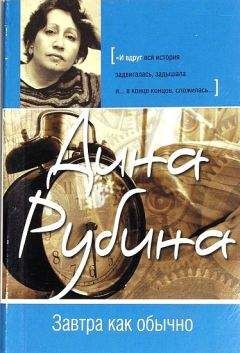Эм Вельк - Рассказы (сборник)
— Во время войны он уже дважды предназначался для памятника, и оба раза для памятника воину. Последний раз, кажется, в тысяча девятьсот сорок третьем году, когда и наши рыбаки еще мечтали о победе. А сейчас они только никак не договорятся, ставить памятник на скале или на берегу. Те, что ратуют за скалу, хотят увенчать камень высоким крестом, а те, что за берег, мысленно видят фигуру, ребенка например, или хотя бы барельеф и чугунную плиту. Как вы относитесь к идее такого памятника здесь? И если положительно, то какое место вам больше по душе? Вы пока подумайте, а я спущусь в подвал.
III
— Ну? — спросил доктор, разлив вино по стаканам.
Да что тут долго раздумывать!
— Когда люди сообща ставят памятники отдельным представителям человечества, надо, по-моему, прежде всего помнить о том, кто совершил подвиг, как в этом, здешнем случае. Место? Только одно — омываемая морем скала, вот, на мой взгляд, самое подходящее место — скала и на ней крест. Кто будет читать надписи на чугунной плите, лежащей на берегу? А может, всего правильнее было бы попытаться разузнать у жителей острова, не осталось ли у героя родственников, для которых можно было бы что-то сделать в знак благодарности.
Доктор покачал головой.
— Кроме меня, никто его не знал. А поскольку я его знал, мне больше по душе было бы вообще отговорить всех от этой затеи с памятником. Три матери спасенных детей уже злятся на меня из-за этого и даже утверждают, будто у меня были какие-то счеты с моим бывшим шофером, что-то такое, чего я и после смерти не могу ему простить. Они хотят его смерть считать его преображением.
Я не понял доктора и посоветовал ему поддержать людей в их стремлении выразить благодарность и сообщить им сведения о прошлом своего бывшего шофера, даже если все сведется к простому обелиску, который через несколько лет будет предан забвению.
Доктор допил вино, но не сразу начал рассказывать, а какое-то время сидел, задумчиво уставясь на стену. Лицо его помрачнело: казалось, он сомневается, стоит ли вообще говорить. Хорошо зная его, я понимал, что принуждение тут бесполезно. Совершенно неожиданно прозвучали в маленькой комнате первые слова, впрочем, «звучания» как раз и не было, то, что я смог расслышать, было началом рассказа, удивительным по своей монотонности.
— Когда я еще жил в Альтендорфе под Штеттином, он был моим соседом. Я знал его с юных лет. Отец его был деревенским кузнецом и сына своего, хотя тот был, пожалуй, слабоват для этой профессии, намеревался тоже приобщить к кузнечному ремеслу. Вероятно, из тех же соображений, из которых крестьяне и ремесленники, имеющие земельный участок, заставляют одного из сыновей во что бы то ни стало идти по своим стопам. В двадцать три года он должен был вступить во владение кузницей. Честолюбец в душе, с ловкими, умелыми руками, он, закончив обучение у отца и по-прежнему живя в деревне, стал посещать специальное техническое училище и уже в двадцать пять лет стал мастерски делать телеги на пневматических шинах и прицепы. Когда началась война, ему было тридцать, он уже несколько лет был женат, и, по-видимому, счастливо. Я это заключаю из того, что по вечерам он частенько сиживал один в своем саду и играл на гармонике. И что особенно интересно, это не были ни уличные песенки, ни обычные тогда военные марши, ни солдатские песни. Еще два года он смог пробыть дома, вероятно, была большая нужда в его прицепах, потом призвали и его. Накануне вечером он пришел ко мне, какой-то беспомощный, или, вернее, растерянный. Не для того, чтобы помучить, а просто желая, воспользовавшись его состоянием, заставить его хоть немного пошевелить мозгами, я сказал: «Вы подавлены, мой юный друг. Вам грустно. А сознаете ли вы, что ситуация, в которой вы оказались, не что иное, как следствие политики вашего фюрера?» Он знал о моих политических убеждениях, знал, что меня несколько раз вызывали на допрос, и несомненно считал, что я поверил его признаниям, сделанным мне несколько лет назад, будто он вступил в нацистскую партию единственно из соображений коммерции. Действительно, он только принимал участие в тех партийных праздниках, что устраивались в деревне. Протянув мне руку на прощание, он вдруг собрался с духом и попросил меня присмотреть за его женой и тремя детьми, если с ним что-нибудь случится. А когда я хотел его успокоить, он со слезами на глазах сказал, что не вернется живым. Вот так-то, а потом мы еще пили с ним коньяк, он ушел домой, и к вящему моему удивлению я через час — стояла светлая летняя ночь — увидел, что он сидит на одном из прицепов, стоявших во дворе, и играет на гармонике. И что же он играл? Нет, вовсе не что-то сверхчувствительное, вроде «Утренней зари», нет, он играл «Степную розочку». Никогда бы не подумал, что он знает эту вещь.
Прошло полтора, а может, и два года, прежде чем он получил отпуск. В один прекрасный день я увидел, что он стоит у себя в саду, в форме ополченца. Он приветливо помахал мне и крикнул, что после обеда зайдет к нам. Когда он пришел, меня дома не было. Он гулял по саду вместе с моей женой, вот тогда-то это и случилось. Я большой любитель фасоли, и мы натыкали два ряда довольно крепких и высоких палок с перекладинами, по которым она должна виться. Он ухватил несколько этих палок, слегка тряхнул их и сказал моей жене: «Смешно, ей-богу, но с тех пор как я опять здесь и вижу ваши штанги для фасоли, я все время вспоминаю это». — «Что это?» — спросила моя жена. — «А вот как раз так, только подальше друг от друга, мы в Польше ставили столбы и вешали на них еврейских детей».
Моя жена вскрикнула и в ужасе уставилась на него.
Но он пояснил, как будто бы совсем бесстрастно: «Но это же был приказ. Понимаете, если бы я этого не сделал, меня бы расстреляли и вместо меня это сделал бы другой».
Моя жена снова застонала, отшатнулась от него, но потом проговорила: «Но ведь это же просто байки, страшные солдатские байки! Неужто вам не стыдно такое рассказывать?»
Тогда он, очень удивленный, ответил: «Ну да, сперва мне было страшновато. Но, знаете, мало-помалу к этому привыкаешь».
И тут моя жена упала в обморок. Он помчался за нашей прислугой, и они вместе внесли мою жену в дом. Когда она очнулась и увидела его, с ней случилась истерика. К счастью, тут вернулся я.
Доктор печально и понимающе посмотрел на меня и кивнул.
— Я был немало наслышан о том, что творилось в Польше. Если бы мне это просто рассказали, это было бы только лишним подтверждением сотворенных там ужасов. Но меня совершенно выбило из колеи то обстоятельство, что этот человек, вовсе не бессердечный эгоист, не оголтелый нацист, а скорее тихий, чувствительный малый, счастливый муж и отец трех здоровых ребятишек, в которых он был буквально влюблен, оказался способен на такое. Этого я не мог постичь, ни как врач, ни как психолог.
Когда моей жене стало лучше, я пошел к нему. Жена об этом не знала. Казалось, ему нисколько не было стыдно. А робость, с какой он мне обо всем рассказывал, безусловно, происходила из другого источника, а именно оттого, что он беспокоился, не зная того, как я себя поведу. Ведь он рассказывает человеку, который известен ему как противник режима, вещи, разглашать которые строго-настрого запрещалось. А он еще и об этом запрете рассказал. Меня же особенно волновало открытие, что этот молодой человек не ожесточился, не стал циником, не напускал на себя показную жестокость и надменность, желая заглушить муки совести. Ничего подобного. Все было именно так, как он сказал: он к этому привык! Знаете, мой милый, я вдруг увидел тысячи, сотни тысяч, миллионы добрых своих соотечественников, отцов семейств, христиан, бюргеров, филистеров, благопристойных граждан, которые в годы войны привыкли не только собственноручно истреблять и убивать, но привыкли также к системе истребления и убийства. Ибо для них это уже было не преступлением, а патриотическим деянием, вызванным необходимостью защищать народ и страну. Воистину, что люди знают о себе? И что мы знаем о них? Когда во время войны я возмущался позицией церкви, то нередко — говорил себе: ее служители меньше всех знают о человеке. Тогда я оправдывал священников и первосвященников, поскольку был убежден, что и господь бог не может все досконально знать о человеке.
После продолжительной паузы доктор вновь заговорил:
— Когда пятерых его работников, одного за другим, призвали в армию, жена кузнеца заперла кузницу и вместе с детьми подалась к своим родителям в Штеттин, всего за каких-нибудь пятнадцать километров. Больше я о ней ничего не слышал. В апреле тысяча девятьсот сорок пятого года вышел приказ СС об эвакуации деревни. Я, как видите, перебрался сюда, к морю. Это были тяжелые годы. После смерти моей жены приехала ко мне дочь, которая осталась вдовой. Она и вела мой дом.
Потом наступил тысяча девятьсот пятьдесят третий год, и в один из весенних дней на моем пороге появился человек, о котором я вам рассказал и которому люди хотят поставить памятник. Исповедь его, хотя он то и дело запинался, была правдивой. В тысяча девятьсот сорок седьмом году он вернулся из плена. Его родная деревня и дом, который он оставил в целости и сохранности, хотя и уцелели, но, так же как и Штеттин, отошли к Польше. Под развалинами Штеттина остались погребенными его жена и трое детей. От отца он унаследовал какое-то подобие религиозности и даже в гитлеровские времена, несмотря на все кляузы бургомистра, не порвал с церковью. Теперь — так он, во всяком случае, заявил — на него снизошло прозрение, он понял, что гибель семьи была ему карой за его злодеяния в Польше. И еще он присовокупил: «А я ведь только выполнял приказы, за неподчинение меня бы самого убили. Вот так-то, господин доктор».