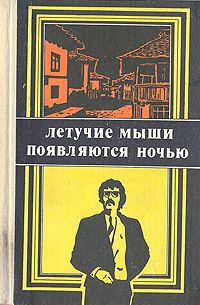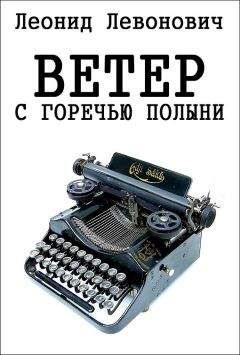Анатолий Байбородин - Не родит сокола сова
Да не зажился Гоша Хуцан с Варушей Сёмкиной. Новожени еще медовый месяц не отвели, – посмеивался Гошин сосед Хитрый Митрий со своей бабой Марусей-толстой, – как в селе шумно справляли юбилей Еравнинского «Райпотребсоюза». Из города среди прочих торговых шишек пригласили Лейбмана Исая Самуиловича, – тот одно время верховодил в потребительском союзе. После торжественного славословия, бесчисленных грамот, премий, после концерта в клубе и Петр Краснобаев пролез на сабантуй подле Самуилыча, – все же старинный друг и сват, коль сын Петра Алексей сошелся с Мариной, дочерью Исая Лейбмана. Позвали и Гошу Хуцана – лет двадцать заведовал райповскими складами, на харчах сидел.
Столы накрыли в притрактовой каменной столовой, которую еще в тридцатые годы сотворили из сельской церкви, своротив кресты, луковицы и купола. Лишь до колокольни руки так и не дошли, и торчала она скорбным укором посреди села, примыкающая к трактиру, убого чернеющая выбитыми очами, с дурнопьяной травой по замшелому куполу. Как и во всякой деревенской харчевне, в трактире имелось два зала: большой, для черной кости, – сырой, облупленный, похожий на казенную баню, и малый, потайной, – для белой кости, хвастливо обшитый прикопченной фанерой, с тюлью и огрузлыми портьерами на окнах, с картинами в золоченных рамах, с хрустальными рюмками, с фикусами в кадках и радиолой – буги-вуги плясать. Там, в малом зале, и накрыли столы, да так щедро, что столешницы под хрустящими скатёрками аж прогнулись от дорогих и неведомых наедков, напитков, отчего чернокостные застольщики робели к ним прикасаться, налегая на водочку и селедочку.
Коль Исай Самуилыч вырос в торговую шишку республиканского размаха, то здешние начальники, притомив застолье, плели и плели долгие, льстивые здравицы в честь высокого гостя. Но Самуилыч, мудрец, слушая лесть в пол-уха, снисходительно усмехался в смолевую, тронутую изморозью, холеную бороду и нет-нет да и весело переговаривался со старым товарищем и сродником Петром Краснобаевым. Когда охмелевший торговый народец, распрягся, заговорил враз, уже не слушая друг друга, когда на винных парах закачалось «Черноморское танго» и распаленные мужики потянули в круг холеных товароведок и толстомясых продавщиц, Исай Самуилыч, вынув пачку «Герцоговины Флор», решил перекурить. Минуя кухню и подсобку, прошел на хозяйственный двор трактира, откуда во всю алую закатную ширь отпахнулось Сосновское озеро, а за ним, будто, виделось другое, берега которого дыбились сизыми хребтами. Следом за гостем, опьянев и осмелев, потянулся и Гоша Хуцан, – вроде, перемолвиться с глазу на глаз. О чем уж они судачили, Бог весть, да, чуя неладное, Петр Краснобаев, с трудом выбравшись из застолья, кинулся во двор… но уже ни Гоши, ни Самуилыча во дворе не нашел, – как сквозь землю провались. Перепуганный, с выкаченными глазами, Петр влетел в трактир, переполошил народ, который бросился искать гостя.
Петр и надыбал свата в дряхлой колокольне, где тот бездыханно валялся на мусорной куче с кровавым колтуном в черной, с проседью кудре, что еще вилась за ушами и на затылке. Мужики обмерли, бабы заголосили… Но тут наехала больница, милиция, и Самуилыча …тот оказался живым, лишь от удара вышибся из памяти… втащили в «неотложку». А Гошу Хуцана… и Петр Краснобаев, и другие застольщики показали, что тот вышел из трактира следом за гостем… Гошу, поймав за селом, скрутили в бараний рог и впихнули в «черный воронок».
Самуилыч оказался на диво живуч: три дня валялся в больнице без памяти, а потом очухался, и уж врачебные светилы в городе не то что на ноги поставили мужика, но, кажется, сладили покрепче прежнего. Вроде, искупался в мертвой да живой воде и обернулся добрым молодцем, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Все, как на собаке, заросло. Но Гоше от того было ни холодно, ни жарко, – срок припаяли ладный, ни годочка не скостили.
Петр Краснобаев, которого вызывали в городской нарсуд свидетелем, поведал домочадцам, что Гоша, не запираясь, добросердечно признал вину: мол, сперва браво толковали… все же братка по отцову кореню… но слово за слово, и Гоша сгоряча и спьяну хвать сырую листвяничную горбылину, что сунулась под руку, и навернул своего братку по плешивой голове. Но, дескать, Самуилыч первый начал, первый оскорбил Гошу, а Хуцан за словом в карман не полез, обозвал его жидом хитрозадым, а уж потом и горбылиной отпотчевал. В нарсуде, – смехом припомнил Петр, – сродник Самуилыча, шибко нервный мужик, орал припадочно: «Антисемит проклятый!.. Огнем надо выжигать гниду черносотенную!..» Но ор случился потом, на суде, а во дворе трактира все завершилось так: когда Самулыч с криком упал …наяривало «Черноморское танго», и застольщики крик не слыхали… Гоша, ошалев от страха, думая, что насмерть захлеснул родича, быстро уволок его в разоренную колокольню и бросил на мусорной куче. А сам ударился в бега, но, говорят, присмотрел его Хитрый Митрий и донес милиции, вот Гошу и взяли подле деревенской поскотины.
Накрутили ему на полную катушку – семерик, и угнали туда, где такие же отвержи кормили вшей по баракам; а через год Варуша Сёмкина, не успевшая и пожить мужней женкой, услыхала от неведомого сидельца, отпущенного на волю, будто приказал земляк долго жить, — то ли руки на себя наложил с горя и стыда, то ли жиганьё лагерное подпихнуло на тот свет, но так или иначе, вроде бы, замкнулся Гошин жизненный круг на колокольне, что лепилась когда-то к сельской церкви.
Но почему именно в колокольню Гоша втащил Самуилыча? — спрашивал себя Иван Краснобаев, чуя в этом зловещий смысл.— Но, может, и нет здесь никакой связи с тем, что Гоша, тогда еще молодой, но ранний, под верхвенством покойного Самуила Лейбмана, отца Исая, вслед за укырской церковью, своротил купола и с этой, обращенной в трактир, где пировал торговый люд. Лишь колокольня чудом выжила. Ладились и ее разобрать, но тут Самуила Лейбмана, пережившего царскую каторгу, угнали в сталинские лагеря, а потом стало и вовсе не до колокольни, – война. После победы от мужиков отсталось полторы колеки, некому было рушить колокольню. А как народ одыбал и Никита Хрущев, посмертно облаяв Сталина, помянув ленинских большевиков, со свежей силой обрушился на церковное мракобесие, тут и у районного начальства зачесались руки на колокольню, торчащую позорищем посреди села. И своротили бы, да то ли не скумекав с которого бока ее ломать, чтобы не потревожить примыкающий к ней трактир, то ли от технической скудости и немощи, то ли еще по какой причине, но опять не дотянулись руки до несчастной колокольни. И сломали ее лишь к середине восьмидесятых… вместе с трактиром, который от таянья вечной мерзлоты треснул посередине и стал разваливаться на два ломтя.
Сколь помнил Иван, немало всякого случалось в большом, неспокойном селе Сосново-Озёрск, — и воровали, и вешались, и стрелялись, и других стреляли, и тонули, и от вина сгорали, и насильничали, и много другой пакости творили. Но случаи эти порастали торопливым быльем, и лишь Гошин так и стоял особняком, чернел укором, назиданием, затвердевший в полуобрушенной, облезлой колокольне. Осталась от Гоши одна колокольня, слепо глядящая в озерную синь черными глазницами, возвышаясь над селом вровень с пожарной каланчой; одним боком колокольня выходила на пилораму, где после купания ребятишки отжимали трусы; другим боком, где прежде была паперть и тяжелая, окованная дверь, колокольня угодила в хозяйственный двор трактира, и там вырыли помойную яму, которая всегда была с верхом полна, и вокруг беленого, но грязного надстроя, принюхиваясь, вечно бродили бездомные псы и роились жирные, зеленые мухи, при этом пахло от помойки так, что мимо не пройти, не проехать — такая вонь, что хоть нос затыкай и беги за три версты без огляда. Вокруг колокольни горбатились бугры битого кирпича, что затянулись наносной землей и дурнопьяной травой: лебедой, курчавым чертополохом, крапивой, лопухами с ядовито лиловыми, колючими цветами-шишками.
В мартовскую оттепель, когда с карнизов титьками свисали голубоватые сосульки, умильно балагурили промеж себя голуби, рясными гроздьями облепив карнизы, выступы и ободранный купол колокольни со стороны солнопека. А густыми, сыроватыми ночами в сплетении полусгнивших, полуобрушенных балок стонали коты и кошки на своих яростных свадьбах; стонали с такой сладостной жутью и так по-человечьи, что у ребятишек, заглянувших в колокольню, увидевших зеленоватые огни, мерцающие в темени, услышавших стоны и вопли, мороз пробегал по коже, волосы дыбились, а Ванюшке блазнилось иногда, что плакали под куполом чьи-то бесприютные, без исповеди и покаяния, грешные, неотпетые души.
Часть восьмая
1
Далеко от родного Забайкалья схоронив отца, мать дотягивала свой усталый век поочередно у дочерей Шуры, Татьяны и Веры, давно уже мужних и детных, живущих в приамурском городе Хабаровске. Месяцами гостил Иван у матери, и, хотя сам уже внуков ждал, но под материным то жалостливым и ласковым, то бранливым взглядом напрочь забывал про свою пегую бороду и скорбную паутину вокруг усталых глаз и чуял себя сопленосым Ванюшкой, которому мамка сейчас или макушку понюхает, или выходит по голой заднюшке мокрым полотенцем. Мать, согнутая в клюку, уже едва ходила, а больше полеживала на койке, под матрасом которой, как посмеивались дочери, таился материн склад – гостинцы для многочисленных внуков.