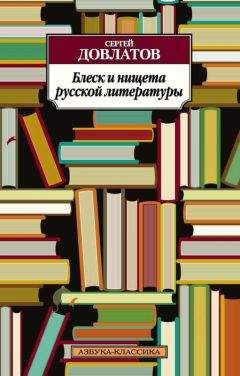Леонид Сергеев - До встречи на небесах
Самое нелепое, Яхнин и сам убежден в своем высоком мастерстве; как-то отчитал Тарловского, который тоже делает адаптации:
— Марк, ты испохабил Марка Твена (тот пересказал «Принц и Нищий»). Пойми, пересказчик это умелец, который из большого яйца делает перепелиное!
На самом деле Тарловский относится к работе добросовестней и все делает на порядок лучше Яхнина (просто не может делать плохо; как он говорит: «мне самому должно нравится то, что делаю, в моих строчках должно быть какое-то тепло»). Приходько успокоил Тарловского:
— Ну что Леня? Он милый мальчик, но он же архитектор. Его опусы не заслуживают серьезного внимания.
В издательствах Яхнин требует больших тиражей, твердых обложек, крупных гонораров — такой у него подход, такое обрамление своих литературных трудов. По словам Ишкова, который с Яхниным работал в издательстве «Армада», у нашего героя один принцип — «нет разговора без договора», и что «весь смысл его жизни в деньгах», и сам Ишков приветствует подобную меркантильность.
Редакторши издательства «Малыш» мне не раз жаловались:
— Твой друг прилип, как банный лист, приезжает каждый день, у всех уже сидит в печенках; директор говорит: «Да заключите вы с ним договор, чтоб только оставил нас в покое. Замучил меня».
А уж художников Яхнин донимает — страшно смотреть — в каждый рисунок «вносит коррективы», ведь считает себя профессионалом (два-три беспомощных рисунка красуется на его стенах). Как-то говорит с притворным безразличием:
— Меня пригласили на телевидение вести передачу. Отказывался два месяца, все же уговорили.
Позднее приятельница В. Дагурова, редактор телевидения, нам сказала:
— Яхнин нас достал. Целый год добивался передачи. И куда лезет на экран?! С его-то нервным тиком?! (он частенько дергается и гримасничает, словно ему под рубашку залез жук). Не знаю ни одного мужчину, ни одной женщины, которые хорошо отозвались бы о вашем Яхнине. Страшный зануда.
Такой получился номер с телевидением. Над этим посмеялись бы в племени дикарей, не то что в ЦДЛ.
В другой раз Яхнин сообщает нам с Ковалем:
— Перевел «Алису в стране чудес», — и дальше хвастается, какие стихи там настряпал.
— Ну не лучше Бори (Заходера) ты сделал, — взревел Коваль.
— Лучше! — не моргнув возвестил Яхнин
Позднее Тарловский сказал:
— В его Алисе сплошные полоумные фразочки. Это все равно, что в торт воткнуть гвоздь.
Яхнин работает много и быстро; за день может написать штук пять коротких сказок, за три дня переводит книжку (по подстрочникам), за пару-тройку недель — роман; понятно, при такой скорости его уровень письма высоким не назовешь.
Конечно, дело не в скорости. Достоевский говорил: «Все великое делается экспромтом». У них, у гениев, наверно так и есть. Пушкин «Графа Нулина» написал за одну ночь. И Гершвин «Голубую рапсодию» сочинял не дольше. Лавренев за тридцать часов написал «Сорок первый». Чехов говорил, что каждый рассказ пишет не больше одного дня. С другой стороны, Иванов двадцать лет писал «Явление Христа народу», и Толстой двенадцать раз переписывал «Войну и мир» — какой уж тут экспромт! Ну, то есть, у каждого своя творческая скорость, свои затраты.
Долгое время я думал: если Яхнин сбавит обороты, умерит страсть к деньгам, из-под его пера потекут отличные вещи, и свои, нестандартные, с интересной фактурой, но недавно понял — не потекут. Он, дуралей, давно встал на путь заколачивания денег; он как заяц, который бежит меж лучей от фар и не может прыгнуть в сторону; хотя наверняка уже накопил чемодан деньжат… Однажды этот финансовый бог вполне серьезно выдал лозунг:
— Чем больше денег, тем дольше живешь.
Очевидно имел в виду калорийное питание, здоровый отдых и прочее. Такая самоцель. Он, грамотей, не понимает, что «деньги — это дорога в ад», как сказал вождь полинезийцев. Повторяю, удел Яхнина быть мастеровитым обработчиком чужих материалов, так уж он скроен. Это не так уж и плохо, если вдуматься, даже почетно — вон японцы, берут у наших умельцев самоделки и делают из них шедевры, а то и американские разработки доводят до совершенства, да еще делают их компактней, ведь они, как никто, ценят пространство.
Некоторые писания Яхнина — образец откровенной халтуры (не грубой графомании, а подделки первого сорта). Собственно, Яхнин и сам как-то признался, что на работу в «Армаде» смотрит, как на поденщину:
— Мне звонит редакторша: «Вы там имена перепутали. Вначале одно имя, потом другое». А я ей: «Ну исправьте», хе-хе… У них лежит штук пять моих переводных книжек. И детских, и по философии. Главный редактор говорит: «Больше не приносите». А я думаю, надо сделать задел, пока они не рухнули.
Такая предусмотрительность, такие коммерческие соображения, так он подстраховывает себя, делает запасы.
Ну, а гонорары Яхнин выбивает жестко, с мощной энергией, если задерживают — багровеет:
— Свою зарплату получать не забывает?! Со мной нельзя так разговаривать! (он, самолюбивый, считает себя лучшим сказочником, живым классиком).
Яхнин находчивый, оборотистый — своего не упустит, и что плохо лежит, подберет. Как-то при нем Дмитрюк говорит мне:
— Дядь Лень, специально тебе приберег сюжетик, — и рассказывает о стороже кладбища.
Пока я раскачивался, Яхнин издал в «Детгизе» книжку, где использовал рассказ Дмитрюка.
Наша общая приятельница Элла, после того, как сделала вместе с Яхниным книгу, сказала мне:
— Я все перевела, а он даже не упомянул мою фамилию. Слов не подберу! Вот что значит еврей…
Деньги Яхнин носит в кошельке, и достает их трясущейся рукой; он не обмывает свои книги, не отмечает свои дни рождения (хотя чужие не пропускает), и даже зажал шестидесятилетний юбилей. Правда, он и не скрывает свою скупость, честно признавался мне:
— Я жадный.
Такая откровенность, конечно, похвальна, но он, старый дурень, не догадывается, какую память оставит о себе, когда окочурится, распрощается с жизнью. Это ему, умнику хренову, не приходит в голову, это для него непосильная интеллектуальная задача. Дожил до седых волос, но так ни черта и не понял, или совсем растерял остатки разума.
Со стороны прижимистость Яхнина смешна. Он не поленился — снял в квартире радиоточку, чтобы не платить лишние тридцать копеек и без всякого стыда сообщил мне об этом. Он покупает яблоки на киевском рынке («там дешевле» — и не лень ему катить на другой конец Москвы? А мне говорит: «Надо каждый день съедать по яблочку»), курит короткую «Приму» — «так выгодней»). Скряга, куркуль, крохобор, черт бы его побрал! За свою жизнь он ни разу не отгрохал женщине букет цветов — в лучшем случае пару мелких цветочков (какой-нибудь «куриной слепоты»); не пришел к друзьям с бутылкой — всегда с каким-то пузырьком меньше четвертушки («вот, достал спиртяшки у знакомых»); ни разу не купил блюдо бутербродов — если что и притащит с собой, то какой-нибудь «паштетик», размером с пачку сигарет. Это самое большее на что он, жмот, способен. Так и мельтешит, старый хрен, «довел инстинкт самосохранения до абсолюта», — по выражению Шульжика.
Мазнин и Кушак могли просадить весь гонорар, Яхнин в день выплаты в ЦДЛ не появляется. Кстати, Козлов пошел еще дальше Яхнина — подвозит друзей на своей машине и берет с них деньги «на бензин». Ну, Козлов ладно, он слегка тронутый и мне не друг — только приятель, но Яхнин-то один из ближайших! Неужели он, идиот, не понимает, как омерзительна его пламенная страсть к деньгам. Повторяю, какой он после этого умник?! Ведь ясно — ум человека прежде всего в умении смотреть на себя со стороны, да желательно объективно.
Ну вот, отколошматил Яхнина и стало полегче. Что еще сказать о нем, старикашке? Вот вспомнил. Когда меня перестали печатать в детских издательствах, он поступил по-дружески — выступил в «Малыше», сказал обо мне добрые слова, настроил И. Токмакову на благосклонный лад и та выдавила:
— Да, Сергеева надо печатать.
Как-то бывшая жена Кушака кобылица Дюймовочка презрительно фыркнула мне в лицо:
— …А что ты написал? Ничего стоящего!
— А «Утренние трамваи»?! — набросился на нее Яхнин.
— Ну, подумаешь! Всего одну книжку!
— А этого мало? — вскричал Яхнин, и я понял — нанесенное мне оскорбление он воспринял, как настоящий друг, точно плюнули ему в душу. Он защищал меня и от других нападок — дальше, может, вспомню; защищал не раз и не два, и это ему, несомненно, на небе зачтется.
Из всей нашей писательской братии Яхнин больше всех уважает Успенского и Коваля. Однажды выпивали с Ковалем и тот, как всегда, вначале отпустил в мой адрес дежурное:
— Ленька пишет, как я.
Потом похлопал и Яхнина:
— А ты пишешь сердцем.
Яхнин весь зарделся:
— Спасибо, Юр! (для него эта похвала значила много).
А между тем Коваль, старый филин, лицемерил — он никогда не читал Яхнина больше одной строчки; «не могу читать, очки слабоватые», — выпячивал губы и подмигивал мне.