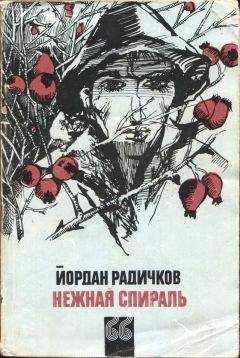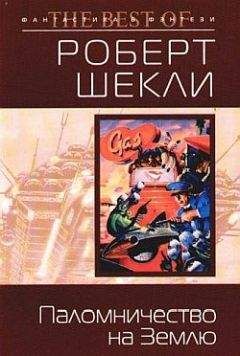Йордан Радичков - Избранное
Старик поднялся. Он поднимался очень медленно, какими-то толчками, припоминая навыки встающего человека. Мальчик не ответил ему, и ослабевший его слух не уловил возле себя никакого шума, если не считать далекого перезвона каракачанских отар или, вернее, тени их звона. «Динко! Динко!» Мальчик не отзывался. Старик поискал в воздухе веревку и пошел по веревке к сараю.
Мальчик оставил старика, еще когда тот входил в церковь с генералом, с греческой девочкой и солдатами. Он увидел отары бывших греков — каракачан, тучи колокольцев, тучи пестроты и длинные, черные и насупленные герлыги, загибающиеся на концах, как крючковатые носы. Мальчик побежал на перезвон колокольцев, пока не услышал их у себя под сердцем — дон-дон! — и не остановился, почти наткнувшись на каракачанку. Она смотрела на него из-под шерстяной шали своими черными глазами и улыбалась ему, и мальчик тоже ей улыбнулся и шмыгнул носом, как будто одной улыбки было недостаточно и к ней надо было добавить что-то еще. Впереди шли другие каракачанки с веретенами, раскрашенными ярче, чем петушиный хвост, и о чем-то громко разговаривали. «Кифики» и «кификас» — только это и различил мальчик и, уловив эти магические слова, обернулся, чтобы найти глазами старика; веревка тянула старика к сараю, а может, это он с помощью веревки тянул сарай к себе. Каракачанка снова закрутила веретено, оно повисло, заскользило вниз, почти коснулось низкой, выстриженной овцами травы и снова подскочило вверх, и снова заскользило вниз, вниз, коснулось травы и снова подскочило — могло показаться, что трава обожгла его, поэтому оно рвалось вверх. Так и взгляд мальчика — касался глаз каракачанки и тут же отскакивал. Баран повернулся к мальчику своим горбатым носом, распространяя вокруг себя загадочный запах тех же слов — «кифики» и «кификас». Женщина все с той же улыбкой посмотрела на барана, и мальчик почувствовал в ее взгляде какой-то таинственный смысл.
Каракачане отшумели, поднявшись по холму наискосок, и, когда они перевалили через холм, мальчик побежал прямо вверх, и бежал до самого гребня. Сверху он посмотрел на другой мир, но, кроме других холмов и гор вдали, ничего не увидел. И все же он знал, что где-то там, в том мире, есть его дядя и есть велосипед. Дядя последний раз приезжал на велосипеде осенью, когда маму зарывали в землю. Раньше он приезжал часто и научил мальчика кататься на велосипеде. Осенью дядя что-то говорил отцу о мальчике, а отец говорил дяде — нечего сбивать мальчишку с толку своим паршивым велосипедом, знаем мы эти велосипеды, насмотрелись на велосипедистов, а дядя говорил, что мама сказала — не будет ему прощения, если он останется здесь, в этой глуши… Сейчас дядя, верно, ездит где-то среди этих холмов на своем велосипеде и звонит в звоночек — дзинь, дзинь! Если дядя приедет еще раз, Динко попросит его подождать на берегу, а сам сядет на велосипед и поедет мимо овечьих отар, мимо каракачан и каракачанок. Все овцы будут выворачивать головы, глядя ему вслед. Каракачане рты пораскрывают, а каракачанки выронят свои веретена, и те, обрывая нити, покатятся вниз по холму. Динко поднимется на самый верх, потом спустится вниз и посадит на велосипед всех каракачанок. Но прясть-то ведь кто-то должен, и вот каракачане подберут веретена, заткнут их себе за пояс, повяжутся платками и, хоть они и усатые, начнут прясть, а Динко будет катать их жен. Потом он привяжет к велосипеду дедушкину веревку, дед ухватится за веревку и побежит вслед за ним вместе с домом и сараем… Мальчик запрыгал на одной ноге, споткнулся и упал, но ничуть не ушибся. Он покатился кубарем вниз, к дому, холм выдергивал из-под него сухую траву, пока он не докатился до самого дома. Там мальчик и остался лежать, с удивлением обнаружив, что холм весь кружится, и дом кружится, и старик кружится вместе с козой, и козе так страшно, что она верещит не своим голосом. Вода около берега вдруг перевернулась, повисла в воздухе и поднялась вверх, но не разлилась и не упала, и дождь не пошел, хотя вода и висела наверху, как туча. Туча постепенно опустилась, поколыхалась и легла, успокоенная, меж берегов. Дом, который столько бегал за велосипедом, что у него закружилась голова, привел в порядок дым над трубой и затих. Только коза выскочила из сарая и заверещала: «Что тут творится! Что тут творится!»
Старик сказал: «Будет верещать-то» — и веревкой стал подтягивать к себе дом. Трудная эта работа была ему не под силу, и посередине он остановился. «Бог послал мне бельма на глаза, — сказал старик, — и второй раз я уже не мог увидеть крашенки. Они были такие же, но я их не видел. Бог для того существует на свете, чтобы нас наказывать. Та гречанка вышла замуж за болгарина, у них родился сын, это я потом от людей узнал, сын вырос и подался к партизанам. Царское войско пошло его искать, нашло и застрелило у Черказской реки, когда он бежал от войска. Отец твой тоже там был и тоже стрелял. Я его потом спрашиваю, ты, Иван, в человека стрелял или в воздух? В воздух, говорит, я, говорит, отец, в воздух стрелял. Не будет тебе прощения, Иван, сказал я ему, если ты не в воздух стрелял. А он мне говорит — в воздух, отец. Я мать этого парнишки нашел, говорю, на греческой земле, когда она вот такусенькая была и два корешка держала. Чтоб вам господь руки перешиб, чтоб он вам бельмами глаза закрыл! Нету бога, отец, говорит мне сын, только порох и железо там были, и мы бежали и стреляли. Да я и сам знаю, что такое солдатская служба, тоже бежали и стреляли, а вокруг греческие дети корешки выкапывают или ползают на карачках».
Он приседает и упирается лбом в козий зад. Молоко в модном котелке разбивается в пену, растет, набухает. «Пей, — дает старик мальчику. — Чуешь запах, когда пьешь?» — «Чую, козьими подмышками пахнет». — «Оно пользительное», — говорит старик.
Он уносит по веревке остаток молока и воспоминание о греческих детях, врезавшееся в усталый мозг.
Динко сбегает к воде. Рассказ о греческих детях постепенно исчезает, сворачивается калачиком и проваливается все глубже, глубже, на самое дно чего-то, вроде бы как на дно колодца. И остается там, но он жив, он дышит, как живы бьющие на дне ключи. На дне этого колодца спрятано и многое другое, загляни и увидишь, как там дремлют, свернувшись калачиком, другие воспоминания. Каких-то детей увидишь на дно колодца, людей, лошадей, и сам Динко там тоже есть, с букварем и глобусом, а какая-то женщина пишет на доске мелом. На дне колодца пересекаются улицы, катаются на санках дети, деревенский оркестр дует в трубы, и мчатся с привязанными к уздечке пестрыми косынками лошади, окутанные снежным облаком; и еще там есть расписные фляги и распяленные свиные шкуры, свадебные платки и пасхальные яйца, дети то меряют ими свою силу, то пробуют, у кого крепче лоб, — бьют об лоб яйца. И та же ребятня, загорелая, ослепленная солнцем, ныряет и кувыркается голышом, и вода кипит вокруг.
Все это лежит, свернувшись, на дне, все это живо, и вода в этом колодце не пересохла, мальчик тайком носит его в себе, и вкус этой воды так же близок ему, как близок запах собственной кожи. Все это отложилось со времен, когда здесь была деревня, потом деревня исчезла под водой, а люди, погрузившись на телеги, потянулись за холмы. Исчезли дети, исчез оркестр, свиные шкуры, скот, школьная доска, игры. Играми стали пес, корова, коза, старик, лошади, забавой были каракачане со своими отарами и буря, которая однажды с воем налетела из-за холмов, снесла с дома крышу, разметала поленницу за сараем и все выла и била черепицу, сорванную с крыши, а Иван Ефрейторов мотался взад-вперед, сжимая в руках шапку, и материл бурю. Потом ветер утих, «подавился», как говорил дед, и сейчас над домом еще торчат белые ребра стропил да кое-где краснеют черепичные заплаты. «Я его сам построил, так неужто я его не покрою! Ясное дело, покрою!» — сказал Иван Ефрейторов.
Ветер плохо его знал: он, кабы надо было, сам бы залез ветру в глотку, собой бы ему глотку заткнул, а все равно бы не дался, — так думал Динко. Динко чувствовал, что и он мог бы залезть кому-нибудь в глотку, если б надо было эту глотку заткнуть, но в чью глотку ему лезть и зачем, он еще не знал. В колодец? Нет, не в колодец. Колодец должен быть живым, Динко должен хранить его в тайне, прятать ночью под одеялом, прятать в доме и, если надо, хоть в дымовую трубу засунуть — туда, где таится дьявол и чихает по ночам.
По берегу торжественно вышагивает, высоко поднимая ноги, — наседка. Преисполненная куриной важности, болтливая, как старуха, наседка ни на миг не перестает внушать своим детям какие-то мудрые правила, известные ей одной. Штук пятнадцать утят — это и есть наседкины дети — весело бултыхаются в воде, задирая задики, крякают, разевая мягкие клювы, а наседка принимает их кряканье за знак согласия и продолжает свои наставления. Глупая курица, думает мальчик, не понимает, что утята так и останутся в воде, что никогда они не будут слушаться мать, как и мать их никогда не поймет уток. Но сейчас это, разумеется, не мешает ей чувствовать себя предводительницей пушистого утячьего стада.