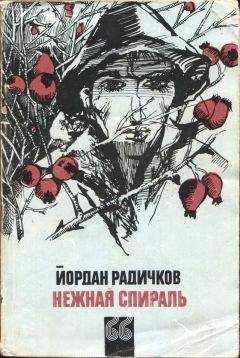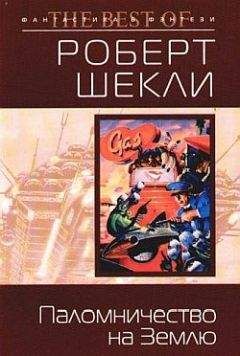Йордан Радичков - Избранное
— Пристрелю как собаку! — сказал Иван Ефрейторов псу. — Не бойсь, рука не дрогнет!
Но заряжать ружье не стал.
— А теперь марш домой! Марш!
Пса качнуло, он несколько раз споткнулся, стукаясь мордой об землю, и, пошатываясь, побрел по поляне. Тело его словно рассыпалось на части, заполонив всю поляну, и части эти натыкались друг на друга, сталкивались, соединялись, искали свое место, то сжимаясь, то растягиваясь, как растягивается толпа, пока не сбились наконец в одно целое, и тогда пес, нащупав нужное направление, побежал уже ровным ходом, хотя и чувствовал еще боль разрывов.
Иван Ефрейторов пошел к берегу. Кусты, которые он будил по дороге, стряхивали с себя росу. Над водой лениво колыхался туман, скрывая противоположный берег. Ночью тумана не было, воздух был чист, и крестьянин видел на другом берегу мерцающее окно своего дома, подобное маяку. Сейчас все было скрыто теплыми испарениями, и только где-то вверху, словно повиснув в пространстве, синели Черказские горы, такие же зыбкие и колышущиеся, как теплый туман. Иван Ефрейторов помыл руки и зачерпнул воды в короб для бруска; короб он, не глядя, привязал под колено; он и с закрытыми глазами мор бы его привязать.
На обратном пути он слегка волочил ногу, тоже по привычке, чтоб не слишком сильно раскачивать короб. Сняв косу, висевшую на дереве, он сначала сделал несколько коротких взмахов, словно разминался или вспоминал, как надо косить. Но это продолжалось недолго, пока он не выкосил вокруг себя маленький кружок. Брусок громко прошелся по стали, и коса с размаху впилась в траву. Трава вздрагивала и ложилась, вздрагивала и ложилась… Скошенная трава отдает нам свои запахи, и только бледные стебельки остаются на коже земли, как следы ножниц на стриженой голове ребенка. И так до конца, до самого берега.
Утренний ветерок спустился с гор и косил теплые испарения над водой. Через час, думал Иван Ефрейторов, будет виден его дом и склон холма. И пес перед домом, забывший о побоях, но запомнивший урок. И мальчик перед домом, и старик. И каракачанки, утонувшие, в шерсти, одетые в шерсть, повязанные шерстью, прядущие шерсть на своих тяжелых веретенах — скошенная трава вздрагивает и ложится, вздрагивает и ложится… пестрые каракачанки, щекастые и черноглазые, прилипчивые и терпкие, такие же терпкие, как их немытая шерсть, идут себе и прядут на ходу, идут и прядут, а их пестрые юбки подрагивают. Вжик-вжик — подрагивают веретена. Вжик-вжик, вжик-вжик — ходит коса то влево, то вправо, и пестрые травы ложатся, ложатся одна на другую, и растут пестроцветные валки, и прилипчив и терпок их запах — ни дать ни взять каракачанки. Вжик-вжик, вжик-вжик!
Запах травы становится все сильнее, и жарче. Мельтешащие в воздухе насекомые падают без чувств на умирающую траву. Улыбка робко вылезает на лицо, лицо приходит в равновесие, становится самим собой. Трава в валках преклонила колени. Пот стекает на глаза, щиплет, но Иван Ефрейторов не бросает косы; он спешит закончить работу до обеда, чтобы взять лошадей и переплыть на них обнаженную водную гладь до своего дома.
Из трубы его уже шел дым.
Дом Ефрейторова стоял на берегу водохранилища, у подножия скудного холма. Даже трава на этом холме росла плохо и быстро сгорала, и пригодиться ома могла бы разве только черепахам, если б те решили вдруг съехать по скату холма, чтобы напиться воды из водохранилища. Узкая полоска земли вдоль берега была распахана и, хотя поливать ее было трудно, все же давала кое-какой урожай. Дрова и сено Иван Ефрейторов привозил с острова, он привык к нему, остров стал его тайной, и с этой тайной он рассчитывал протянуть еще годик-другой. Лошади у него были крепкие, он занимался извозом, брался за любую работу, какая подвернется, и жил не бедно и не богато, но зато независимо, а это не так уж мало во времена зависимости, несамостоятельности и всяких унижений, когда каждый норовит тебя запрячь. У Ивана Ефрейторова был свой ломоть хлеба и свой ломоть свободы, и этого довольствия ему хватало.
Неподалеку от его дома стояли раньше еще два, но хозяева их перезимовали у водохранилища только одну зиму, разобрали дома и увезли материал с собой. У одного соседа дочь была замужем в городе, он тоже там построился и остался жить. Окна у него были низко над землей, он дышал пылью и фабричной копотью, но не хотел сознаваться, что ему плохо. Иван Ефрейторов встретил его раз — тот вез в коляске младенца, а под мышкой держал буханку хлеба, ходил, значит, вместе с младенцем в булочную за хлебом. Тогда он и позвал Ивана посмотреть, какой он построил дом, а Иван плюнул и вернулся к подножию своего холма. Другой сосед перебрался к деверю в соседнее село и стал работать в лимонадной мастерской: подкрашивать воду и разливать ее по бутылочкам — занятие для малых ребят. Иван Ефрейторов остался под холмом. Жена его осенью померла, и они перезимовали втроем — Иван, дед и мальчик.
В то самое время, когда Иван Ефрейторов косил на острове, полагая, что пес уже вернулся домой, дед и мальчик сидели перед домом. Старик был слепой, глаза его затянуло бельмами. Он наловчился топить на ощупь печку, ставить на стол посуду, мог дойти по двору до сарая, выпустить или загнать корову или козу. Чтобы не тыкаться наугад, он протянул от дома до сарая веревку и по веревке двигался очень быстро. Сейчас старик объяснял мальчику, что каракачане (он слышал колокольцы их отар) — это те же греки, только переселившиеся в наши горы давным-давно, во времена большой чумы. Каракачане как раз переваливали через холм, и мальчик видел их отары и каракачанок — они шли среди своих овец и пряли на ходу, и ни у одной прялка не выскакивала из рук. Для него они были как из сказки, как из другого мира. Сам он в другом мире не бывал, только смотрел на него с вершины холма; в другом мире тоже были холмы, и оттуда появлялись иногда эти отары, и каракачанки, и насупленные каракачане с насупленными герлыгами в руках — черными, с крюком на конце. Старик говорил, что они неплохой народ, а что насупленные — ото ничего. Овец разводят, в своем деле знают толк, умеют и кровь пустить, и от ящура лечат, и брынзу делают.
Этот народ тоже страдал, а уж как он во время войн настрадался — не приведи господь. Старик рассказывал, что как-то раз он ехал на телеге, а из колючего кустарника у дороги вышли голодные дети, они плакали и просили хлеба. Солдаты отдали весь свой хлеб, а дети тут же проглотили его и снова стали просить хлеба. Другой раз они тоже ехали по дороге, с ними был генерал, и они увидели, что у дороги лежит ребенок. Генерал остановил машину и сказал одному офицеру: «Погляди, что с ребенком!» Офицер сказал: «Да он мертвый, чего мне на него глядеть!» Генерал сказал: «Я тебе приказываю!» Офицер сказал: «Это греческий ребенок, его греческая курва родила!» Генерал сказал: «Заткни свою грязную глотку!» — и вытащил пистолет. Офицер весь побледнел и задрожал. «Вон отсюда! Вон!» — закричал генерал и выстрелил бы в офицера, если б тот не выскочил из машины. Офицер пошел к ребенку, но генерал остановил его и сказал, что застрелит, если тот сделает еще хоть шаг. И тот остановился. Тогда генерал сказал мне: «Поди посмотри, ребенок живой или нет». Я пошел, и ребенок оказался живой, лежит и дышит, но меня не видит. Два корешка каких-то схватил, один в руке у него, другой изо рта торчит. «Живой, — говорю, — господин генерал, два корешка у него и дышит, только меня не видит». — «Неси его сюда», — сказал генерал, и я поднес его к машине. Это была девочка. Тогда генерал сказал: «У меня такая дочка умерла, я эту девочку возьму». Он ее взял, и мы поехали, а офицер остался на дороге. «Господин генерал, — закричал офицер, — не оставляйте меня, меня здесь греки убьют!» — «Пусть убьют, — сказал генерал, — и бросят шакалам». Девочка сжимает свои корешки, смотрит и ничего не видит. Генерал вытащил корешок у нее изо рта, налил ей в рот чаю, и она зашевелилась. Он еще налил, и она снова зашевелилась. С нами солдат один был, так он разревелся. Потом он дал генералу кусок сахару, а генерал протянул ему корешок. Солдат попробовал его пожевать и говорит мне: «Это нельзя есть, это и скотина есть не станет». Я попробовал — горько. В черной земле он рос, в темноте, солнца не видел. Доехали мы до села, врача нашли, спасли девочку. Генерал повел нас в церковь, и девочка с нами, мы стали петь, а генерал девочке кусочки сахару дает, она их сосет, облизывается, и глазки уже смотрят. Мы поем и просим господа не вводить нас во искушение, а девчоночка улыбается, лижет сахар и что-то лопочет — вроде «кифики». Из нас-то никто по-гречески не понимает, но коли она говорит «кифики», и мы все стали говорить «кифики», и генерал то же слово говорит, и вот говорим мы все «кифики», а сами просим господа не вводить нас во искушение. Свечей нет, но с икон смотрят на нас святые, все как есть постники, одни корешки в своих пустынях ели, смотрят на нас, и слеза их прошибает. И у святого Николая Чудотворца, который одни рыбьи кости ел, тоже слезы на глазах. Знают святые, каково это — корешками питаться. И мы поем, и у нас тоже слезы, а генерал говорит, застрелить следовало пса этого, офицера. У генерала нашего были грехи, и он хотел девчоночкой грехи свои искупить. Он отдал ее в сиротский дом, спас девочку, и случай этот забылся. Как-то — много лет прошло — заехал я в монастырь святых Сорока мучеников и встретил там одну женщину. Женщина работала на кухне, а когда приносили соты, варила воск для монастыря. Слово за слово, и разговорились мы о том, кто она да откуда. Из Македонии она, говорит, из сиротского дома, а здесь, в монастыре, и пропитание себе нашла, и веру, тут корни пустила, но ей рассказывали, что ее спасли во время войны, когда она одни корешки ела, и что было это в Греции. Так это ты, говорю, а она ничего не знает, да и откуда ей знать. Знаю я твой корень, оба твои корня знаю, говорю я ей, и рассказываю, как было дело, и про генерала, и про корешки, которые она сжимала, один — в руке, а другой — во рту, только про офицера утаил, потому как срамота. Тут эта женщина упала на колени, руки мне целует, и потом еще два раза на пасху посылала мне крашенки — одно яйцо красное, а другое — лиловое. Первый раз я их видел, а второй раз господь мне глаза бельмами закрыл, и я их уже не увидал. Но они опять такие лее были: одно — красное, а другое — лиловое. Одно — божьих рук дело, а другое — диаволовых. Бог живет в доме у человека на свету, а дьявол живет в печной трубе. Висит на цепи, над огнем и над дымом, и ночью слышно, как он чихает. Это он, дьявол, придумал страдания греческих детей. А господь и хотел бы помочь, да не может. У господа есть справедливость, но нет человеческого понятия. А чтобы человеку помочь, нужно человеческое понятие. Господь дал его людям, и каждый тащит это понятие к себе, каждый хватает, каждый за него в драку лезет, как цыган лезет в драку за свой шатер. Нету больше человеческого понятия, разодрали его человеки в клочья и зарыли в землю, как картошку зарывают. Остались от него только корешки, горечь одна осталась, в рот не возьмешь. А и возьмешь, все равно господь тебе зрения не даст. Длинная это история, как китайская стена, длинная и такая же бессмысленная. Дым выходит из дома только через одну трубу. Генерал все это знал. Путь добра лежит через грехи. И путь зла тоже. По одному пути днем ходят, на глазах у солнца. По другому пути — ночью, когда солнце закрывает глаза. Ночной путь — точно корешок греческой девочки — горчит и не может человека насытить. Если б мы тогда ночью ехали, мы бы девочку не увидели. Но мы ехали днем, днем человеку легче, душа его может и огонь в себя принять, и все равно не сгорит, как дьявол глотает огонь и не сгорает. Иди выпусти наседку с утятами А я козу выпущу, хоть бы нажралась наконец эта чертовка, хоть бы борода у нее повылазила!