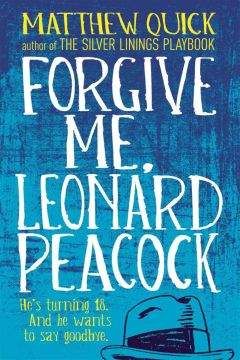Александр Проханов - Матрица войны
– Спасибо, дорогой друг.
Они вернулись в отель, поужинали вместе и расстались, пожелав друг другу спокойной ночи. Утром Белосельцев поднимался на рассвете и мог не увидеться с Сом Кытом.
Он разделся и лег под лепечущие лопасти вентилятора. Ему было печально. Он испытывал необъяснимую вину, неизвестно перед кем, неизвестно за какой проступок. Проступка не было, а было чувство невнятной потери. Но то, что было потеряно, не имело названия.
Он чувствовал беззащитность перед жизнью, сомкнувшейся вокруг него бесчисленным множеством случайных, разбегающихся явлений, некоторые из которых несли в себе угрозу и зло, иные хотели его уничтожить, но большинство было равнодушно к нему, как те голоса и музыка, что раздавались за окном.
Он же был известен и дорог лишь малой горстке людей, многие из которых умерли. Он стал перебирать в памяти своих милых и близких, живых и мертвых, молился за них, и они, живые и мертвые, отзывались на его молитву едва ощутимым теплом. Он лег на бок, поджал к животу колени, в той позе, в какой находился во чреве матери, и заснул, видя над собой ее любящее родное лицо.
В черном утреннем небе – латунная лента. Пальма, черная на заре, со страусиным плюмажем. Вьетнамский джип у подъезда. Капли воды на капоте, желтые, как мандариновые брызги. Вьетнамский офицер, аккуратный, в портупее, козырнул Белосельцеву. Принял баул. Оглядывался с переднего сиденья, когда неслись по пустынному городу. Любезно, на ломаном русском, отвечал на вопросы.
Аэродром был в легчайшей золотистой дымке, словно окутан пыльцой цветущих трав и деревьев. Они прокатили по бетону мимо военных транспортов, белесых старомодных истребителей, разрушенного двухкилевого американского бомбардировщика. На дальнем конце, одинокий, отточенный, темнел вертолет.
– Начальник разведки, – представился Белосельцеву невысокий, с седыми висками вьетнамец, в кителе, без знаков различия, с кобурой. – Готово. Можно лететь.
Белосельцев вошел в вертолет, и ему было уготовано место на железной лавке, на которой уже тесно сидели вьетнамские офицеры. Подняли на него серьезные, внимательные лица. Тут же, укрепленная обручами, стояла оранжевая стальная цистерна с горючим. Лежали на полу два автомата. Пилоты захлопнули дверцу, запустили винты.
Их пронесло над бетоном, Белосельцев в иллюминатор успел разглядеть под собой ширококрылую, лениво сносимую птицу. Взмыли над пальмами. Косо, желто-серебряное, в разводах утреннего светлого ветра, блеснуло огромное озеро, словно приподняли над землей металлический лист, послали вслед вертолету блестящую вспышку.
Вдруг возник Ангкор, обнаружил свой каменный, раздвинувший джунгли четырехгранник. Белосельцев, прижимаясь к стеклу, смотрел на проплывающий храм, пытался ощутить исходившее от него сияние. Но камни были темными, неживыми, словно обитавший в храме дух покинул свою обитель.
Струнка шоссе натянулась и лопнула. Он вспомнил, как день назад мчался по этой дороге, и где-то в красноватых полях, над которыми они пролетают, лежит засыпанный Тхеу Ван Ли, тень вертолета скользнула по его могиле. Поля и дороги исчезли, внизу заклубились зеленые волнистые джунгли, наполненные синей мглой, и среди них тонким разрезом тянулась просека с железной дорогой. Над ней, над двумя крохотными брызгами солнца, отраженными в стальной колее, летел вертолет. Летчик привязал свой маршрут к стальной паутинке.
Он зорко смотрел на непрерывную линию, подмечая на ней признаки обветшания и приметы восстановительных работ. Превратился в думающую, запоминающую, считающую машину, и сквозь круглый иллюминатор, в рефлексе солнца, кто-то наблюдал за ним, безликий, безглазый и тусклый.
Дорога вильнула в сторону, делая медленную плавную петлю, огибая возвышенности. Летчик оторвался от металлической тетивы и, спрямляя маршрут, полетел над горами. Леса тянулись непрерывно и плотно, поражая обилием неочеловеченной первобытной природы, в которой нет места людям, а господствуют стада слонов, обезьян, таятся проглоченные джунглями храмы, следы погибших, побежденных природой цивилизаций.
Белосельцев старался сосредоточиться на этих мыслях, но они скоро утомили его, и он стал осматривать вертолет, оранжевую цистерну с топливом, лежащие на полу автоматы. Обнаружил, что на одном из его башмаков начинает отставать подошва. Потрогал ее, она еще держалась, но грозила вот-вот отвалиться.
Его толкнуло спиной о шпангоут. В толчке, в крутом, наклонившем вертолет вираже он увидел падающего на него с противоположной лавки начальника разведки, посыпавшихся на пол офицеров, и в круглом стекле иллюминатора – наклоненный кудрявый стебель, прилетевший к вертолету из леса.
Машина выровнялась, заревела надсадно, продолжала горизонтальный полет. Начальник разведки метнулся к кабине. Один из пилотов, сняв шлемофон, что-то кричал ему в ухо.
В иллюминаторе виднелось бледное мелкое пламя. Перьями налетало к стеклу, пропадало, и вместо него тянулись синие волокна дыма. Пламя вновь возникало, злее и ярче, и откуда-то сверху, как дождь, падали огненные тягучие капли.
– Горим! – крикнул ему по-русски начальник разведки и опять бросился к кабине.
Вертолет выл металлически и трескуче. Белосельцев, отшатнувшись от обшивки, смотрел сквозь бледный наружный огонь на джунгли, оцепенев, не давая места страху, смутно думая, что случившееся – есть закономерное продолжение всех недавних его превращений. Он отступил от посетившего его откровения, и оно обернулось горящей машиной.
Вертолет терял высоту. Джунгли толпились внизу сплошным плотным войлоком. Зеленые, сквозь дым и красноватые огни, они казались лиловыми, как сквозь светофильтр. Он подумал, что вертолету для посадки нет места, придется садиться прямо на деревья. Предчувствовал удар в металлическое брюхо машины, ломающиеся вершины, хруст отсекаемых сучьев, скрежет и скрип металла.
Он поднялся, чтобы перейти к другому, бездымному борту, но из пола, снизу, из невидимых прогалов ударил огонь, охватил нутро фюзеляжа. Пропал, брызнул едкой бескопотной вонью и снова возник. Свистя и треща, окружил всех, заслоняющих лица локтями, приседающих, стремящихся вырваться из обжигающих обручей.
– Бочка!.. Взорвет!.. – крикнул начальник разведки.
Отталкивая его, из кабины набежал на огонь пилот. Упал на колени, что-то делал у бочки, перекрывал какой-то вентиль, напрасно, как казалось Белосельцеву, и бессмысленно.
Огонь почти пропал, но брюки его горели. Ногу вдруг обожгло и ужалило. Он стал бить по прожженной ткани, сшибая огонь, превращая его в тлеющие угольки.
Боль в ноге, задыхающийся в кашле начальник разведки, вой металла, бестолковые крики офицеров, ожидание, что сейчас, сию минуту они умрут в огромной бесшумной вспышке, расшвыривающей их в небесах над джунглями, – все это родило в нем мгновенный, черно-белый ужас. В сотрясенной душе было нежелание смерти, но не было слов для молитвы, не было сил для спасения.
Это длилось мгновение и кончилось. Огонь, треск обшивки. Внизу открылась поляна с одиноким деревом. На поляне под деревом, и дальше, запрокинув лица, стояли люди с оружием.
«Свои?.. Чужие?.. Что теперь?..» Он прижался к стеклу, глядел на поляну. Горящий вертолет, свистя лопастями, шел на посадку.
Глава семнадцатая
Позднюю осень генерал Белосельцев проводил в деревне, на даче, среди клубящихся холодных туманов, мглистых вечеров и длинных студеных ночей, когда глаза, насмотревшиеся за день на желтые леса, на красные заросли кустов, на золотые туманные иконостасы далеких холмов, не могли сомкнуться. В них, бессонных, горела осень. Он жил эти недели, словно избегнул смерти, уклонился от страшной болезни, оставив под ножом хирурга сочный ломоть своей страдающей плоти. Похудевший, легкий, как сухой полый дудник, стоящий у обочины, еще недавно яркий, с белым пышным зонтиком душистых цветов, на который падала смугло-алая бабочка, мяла, целовала цветы, а теперь обугленный, ломкий, продуваемый свистящим ветром, Белосельцев запрещал себе думать о случившемся. Запрещал думать о поразившей его болезни и о временном исцелении под ножом хирурга. Пыль больных клеток, оставшихся в нем после удаления пораженного органа, могла разрастись, соединиться в новый узел боли, изглодать его до костей. Он жил механически, позволяя себе бесхитростные работы по саду, необременительные усилия, смысл которых был в том, чтобы прожить день. До ночи, до тьмы, когда он лежал в тишине избы, на одиноком ложе, с раскрытыми глазами, на которые осень положила две яркие золотые монеты.
Он стоял среди мокрых грядок, перебирая вилами прелую ботву. Поддевал раскисшие блеклые плети, сносил в кучу. Смотрел остановившимися глазами. Снова поддевал старыми крестьянскими вилами, переносил на другое место. Не мог отыскать среди огорода угол, куда бы лучше сложить сор, оставшийся от цветов, огуречных плетей, картофельных кущ, чтобы куча высыхала до первых морозов, и потом на белом снегу сжечь ее в красном трескучем костре, вдыхая дым исчезнувшего лета, глядя на первый заячий след.