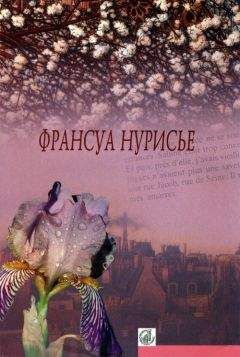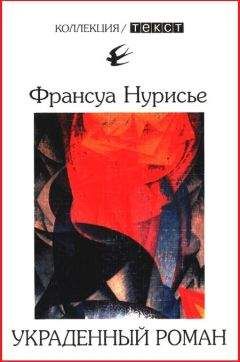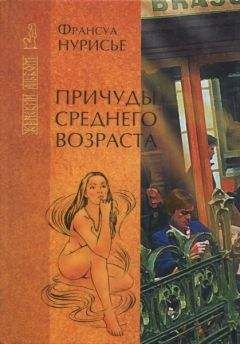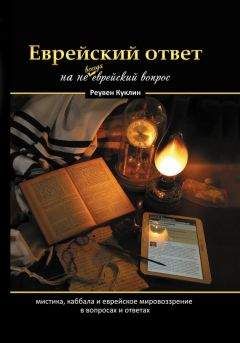Франсуа Нурисье - Бар эскадрильи
Элизабет стучит кулаком по подушке. Она потушила почти все лампы и устроила страшный сквозняк между двумя окнами. На ней надето кимоно из серого льна, которое делает ее более чем голой. Из пяти-шести запылившихся бутылок она выбирает наименее опустошенную, ставит ее между собой и Жосом на ковер, около ведерка со льдом, прежде чем вытянуться там самой, опершись спиной о диванчик. Они с Жосом сидят и пьют. Уже наступила ночь, густо сдобренная музыкой, отзвуками телевизоров. Жос очень спокоен. По кое-каким признакам можно догадаться, что Элизабет пыталась недавно как-то приукрасить его жилище.
— Вечером, попрощавшись с ним перед отелем и сделав вид, будто возвращаюсь в свою крепость, я подстерегла отъезд здоровенного автобуса, в котором музыканты, на грани нервного срыва уже около часа ждали Реми, и направилась за ними в Шоле. Они, естественно, скрылись три минуты спустя из виду, оставив меня далеко позади. Приехав к какому-то подобию спортивного зала, где он должен был петь, я по бешеной цене, поскольку кассы были закрыты, перекупила билет у какого-то спекулянта лет двенадцати и пробралась в зал. В этом бедламе мне не грозило быть узнанной. Дым стоял там такой же густой, как и шум, как и жара, как музыка. Я подумала о голосе бедного Реми. Неужели вот так всякий летний вечер? Какой-то тип все время приставал ко мне — этакий казанова из департамента Мен и Луара, — я даже не могла на него за это сердиться. Ах! Эти фанаты Кардонеля были великолепны! Славные мордахи, юные французы, одновременно и выпускники лицеев, и эти мышки и мышата, которых видишь за окошками почт, такие злобные, но там, в этом гвалте, надо было их видеть: сияющие, преображенные, а среди них дедули как минимум сорока лет, типа солидных профессоров, с обрамляющей лицо бородкой и в ковбойском жилете. Немного напоминает католические кружки, дебют Бреля и все такое… Я же вам сказала: у него затылок бойскаута. Все принялись топать ногами, не продохнуть. Что ж, праздник! Я спрашивала себя, что собственно я там делаю, а потом перестала, ни о чем больше себя не спрашивала. Мне было хорошо. Я уж не стану говорить вам про песни и про состояние души. В конце, когда его вызывали на бис и зал был раскален добела, Реми выкинул потрясающий трюк. Я сейчас подхожу к тому, ради чего я вам все это рассказываю. Он спел «Зверей», одну из старых своих песен, или скорее нет, на мотив «Зверей» он спел мои слова… Вот так, наизусть, без единого объяснения, без колебаний. Ему пришлось выучить их в машине, между Сомюром и Шоле, между шумящими пианистом и гитаристом, как я представляю… А ведь он и не подозревал о моем присутствии. Он делал мне этот подарок просто так, ради собственного удовольствия. Малышня вокруг вначале переглядывалась, а в конце устроили ему овацию. Тогда Реми выкрикнул мое имя, и они аплодировали и кричали от всего сердца, не слушая, как само собой разумеющееся… Я была на седьмом небе… Я чуть было не пошла поджидать его у выхода, чтобы броситься к нему в объятия. Но уж такой-то глупости никак нельзя было совершать, это я все-таки смогла понять, и я поехала обратно в мой замок, куда приехала часа в четыре утра, отстояв положенное у каждого перекрестка… Вы представляете меня ночью, без карты?!
Жос в первый раз за долгое время закурил сигарету, потом другую. Ядовитая сладость, убившая Клод. Почему он когда-то послушался врачей санатория? Как же они были хороши, те «Голуаз» с черного рынка, маршальское курево, сигареты, которые называли «пыхтелками», горлодерами, и воспоминания об этом неотделимы от таинства лесов, от мистики человеческих душ, от газогенераторов, от чеканных профилей на обелисках: допотопная Франция его молодости. С дырявым кружевом вместо легкого, если бы он не был примерным больным, то сегодня сохранился бы всего лишь в виде воспоминания у нескольких версальцев предпенсионного возраста. Воспоминания? Даже не воспоминанием; тенью, имя которой «крутится на кончике языка», но которая не смеет появляться в прохладной атмосфере живых. Как же он хотел тогда жить! Его дисциплина, тщательное соблюдение режима, навязчивое стремление сохранить вес, температурный лист… «Семинарист»… От туберкулеза перестали умирать чуть позже, в пятидесятых годах. В общем, люди из обеспеченных семей.
Жос представляет себе жизнь, в которой он сэкономил бы на жизни. Никакого ЖФФ. Никакого Жиля Лeoнелли. Никакой Клод. Сабина? Да, у него хватило бы времени встретить Сабину. Она любила бы его еще сильнее, дохлого, с горячечными пятнами на щеках. Семья Гойе восстала бы против «этого безумства» — «больной, ты отдаешь себе отчет?» Один щелчок пальцами перевернул судьбу, а то и несколько: источник гипотез неиссякаем. Встреча в Сомюре, например. Летнее каникулярное утро на берегу Луары, рано вставшая бесстрашная и свободная девушка, запах провинциальных городов после поливальных машин, когда официанты рисуют восьмерки на грязном цементе, держа палец в горлышке графина, на террасе своего кафе. Эта деталь — почти чересчур хороша: может, она ее придумала? В конце концов она ведь романистка, наша Элизабет. Насмешница Элизабет, которая трясет руку Жоса:
— Вы все еще меня слушаете?
— Я как раз нашел тебе красивый заголовок: «Встреча в Сомюре». Ты помнишь, как мы развлекались, придумывая заголовки?
— Лично меня не приглашали на праздники в «Альков». И потом это заголовок для романа. Даже нет: для какого-нибудь рассказа, вроде тех, что нашептывают в баре «Пон-Рояль» на ухо этим мерзавкам с тощими ногами. Песня называлась бы просто «Сомюр». Но я бы на это не отважилась. Такому, как Реми, конечно. До этого, раньше, я ничего не понимала в его песнях. Я их любила, но ничего не понимала. Я ничего не знала о его внутреннем мире. Я начала его открывать в то воскресенье. Я понятно объясняю? Брель, если не знать Брюссель, пиво, жареную картошку, это было бы потрясающе, но таинственно. Его внешность грустного Фернанделя, короткие пиджаки раннего периода раскрывали лишь половину его тайны. Сомюр! Конный завод Дюпена! Вы можете меня представить, меня, дочь красавицы Жизели, Венеру с улицы Ульм, в конюшне Дюпена? Другая сторона шарика, антиподы. Забавно, певец, никогда бы не подумала, что у него в голове это прошлое с домами и лесами… Разве не так?
— Ничего, продолжай, ты хорошо рассказываешь о нем.
— Вы находите? Это одновременно и расплывчато, и четко. Существуют рыжие собаки, существуют ставни, чтобы не выгорала гобеленовая ткань на креслах, деликатные женщины, которые встречают какую-нибудь дылду, кладя ей руки на плечи и называя ее «моя дорогая», и предлагают ей чай… Чай!
— Ты что, сочиняешь роман или рассказываешь?
Недовольная, Элизабет встряхивается и встает.
Не в следующее воскресенье, а через воскресенье — то есть четыре дня тому назад — Реми отвез ее к себе, в сторону Санлиса, в деревню под названием Шаман, в дом, окруженный, разумеется, деревьями, и с белыми ставнями. Реми открывал одну за другой свои карты: мать, сестра, рыжие собаки, белые ставни. Какая связь существовала между табачной завесой в Шоле, двухцветным «универсалом», несущимся со скоростью сто сорок по дороге, субботами на телевидении, конвертами для пластинок, на которых аркадийский пастух позирует на фоне ночи, и домом в Шамане, этой девушкой двадцати лет с упругой грудью и бешеными глазами, дамой с седеющими волосами, которая говорила: «Идите в тень, дорогая» и, повернувшись к Реми: «Ну, как это турне?» Она говорила об этом, как о службе.
О, ужасное воскресенье! Прекраснейшее воскресенье. Элизабет было стыдно за свое тело, за свои губы, за выражение зверского аппетита, когда она набивала себе рот, если переставала следить за собой, за те слова, которые приходили ей в голову и никогда не были уместными, слова, которые никогда не были изысканными, сочными, гладкими, как шелк, и которые были в ходу в Шамане, и которые Реми сам употреблял с иронией странника. И как это им всем удавалось? Сестру с глазами, как уголь, звали Мари. Элизабет готова была бы сделать что угодно, совершить любую подлость, чтобы завоевать уважение Мари. «Я тут ни при чем!..» О! Еще как при чем! Мари пожирала глазами Элизабет, изучала, оценивала ее с бесстыдством ребенка. Ко всему прочему, идя однажды по коридору вымыть руки и по старой привычке окидывая взглядом корешки на полках, она обнаружила там свой первый роман. Она взяла его посмотреть: немного пожелтевший, потрепанный, он стоял строго на отведенном ему по алфавиту месте между Вайаном и Веральди. Значит, для них она все же не была пустым местом, какой-то потаскушкой, обманом вторгшейся в дом с белыми ставнями. Какой-то сюжет о ней, возможно, в их памяти задержался? Элизабет почувствовала себя слишком взволнованной, когда вновь появилась на террасе, погрузившейся уже в тень. На некоторое время она почувствовала себя естественно.
Какой-то человек в синем переднике подошел к ним через сад. Он тащил на обрывке веревки немецкую овчарку с прижатыми ушами и испуганными глазами.