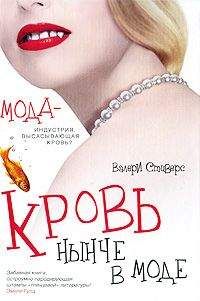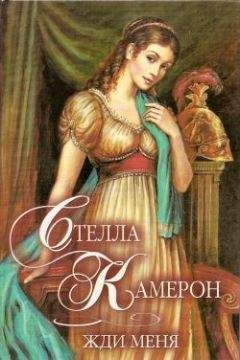Владимир Гусев - Дни
— Я все же женщина, — подтвердила она весело.
— Ладно, не перебивай.
— Да нет, говори.
— Ну, ты вдашься в иронии, в обиды!
— Я? Нет. Я внимательно слушаю. Только можно без «черта с два», без «крути», «верти». Ты же знаешь, я не люблю… этого.
— Вот ты все геройствуешь, а все же баба ты баба.
— И без «баб».
— Ну ладно. Так вот: на что я тебе нужен? Собственно, я закончил. Будешь вертеться, отмалчиваться?
Она молчала; у женщин это просто. Ей сказали: «Будешь отмалчиваться?» — поймали ее; а она и молчит.
— Так что же?
— Я думаю.
— Да нет, коли не хочешь — пожалуйста; но тогда — тоже — так и скажи. Мол, я говорить на эту тему не буду.
— Да нет, буду. Надо поговорить. Но я… думаю. Слушай, зайдем все-таки куда-нибудь; так невозможно. У меня язык отмерзает.
Дело, надо сказать, было зимой перед весной на традиционном московском бульваре; морозы стояли знаменитые.
Московский бульвар; нет тут ассоциаций более нелепых, чем те, которые тянут за собою эти слова. Бульвар; аллеи. О господи. И эта баба.
И, подумать только, она еще поведала мне — уж вовсе недавно, — что родилась не на Хорошевке, а как раз где-то у этих бульваров. Словом, снова сбила символику. Но к делу.
— Опять пить? Разговор-то у нас трезвый, — говорю я. — Он вроде пьяный, а трезвый.
— Да нет, не пить — ну, ты понимаешь; не пить, а выпить; и я подумаю и скажу. В тепле. Тут дело не в питье.
Ох, баба. Баба есть баба… несмотря ни на что.
Ну, пошли мы, походили — туда, сюда; я однажды сказал ей, что, сколько я помню наши «отношения», мы вечно уныло ищем некий унылый кабак — и не можем попасть. Она, смеясь, подтвердила.
Наконец, вышли на Калининский — тут это кафе — как его? — я их забываю. Не тот возраст, да и никогда я не был человеком из кабака… Из московского, городского.
Явились — сидим; и, как бывает, пошло́. Не выпивка пошла — хотя и не без этого, — а «включилось»: тепло, общение.
— Ты уж забыла вопрос?
— Да нет, я думаю, — говорит она, потягивая коктейль (для начала!). — Сейчас я буду отвечать. Ты напоминаешь мне моего мужа.
— Спасибо.
— Ты напрасно шутишь. Я к своему мужу очень хорошо относилась. Сейчас это все уже… конечно. Того. Но я как раз считала, что люблю его. И, наверное, так оно и было… Слово это… какое-то. В него у нас вкладывают не то… как я бы понимала его.
— А как бы это ты понимала?
— Ну, как сказать.
— Когда человек любит, он не думает, как понимать. Особенно если женщина, — назидательно сказал я, думая поразить ее в самое сердце.
— Нет, ты не прав, — спокойно, взросло возразила она. — Тут возможны разные понимания.
Она вдруг «выдавала» эдакие обороты: след какой-то прежней службы. Но это выходило у нее в контексте и мило. Да что не мило в устах красавицы; каждое «противоречие» воспринимается лишь как контрапункт, подчеркивающий суть.
— Так вот. Значит, разные понимания. Так в чем же твое — понимание? Значит, я вроде твоего мужа?
— Нет, ты не похож на него, — терпеливо разъясняет она. — И все же в чем-то вы похожи. Нет, но это не то — я не то хочу; ты сбиваешь. Так вот, «я что хочу сказать» (иронически выделила она). Я… к тебе по-своему привязана. Как я была привязана к мужу.
— По-своему привязана! Ну, мать, и на том спасибо! Я уж благодарил как-то…
— Говорю, как могу.
— Давай.
— Я… изломанный человек. Я, наверно, не такая, как все.
— Обычная женская песня.
— Может быть. Но я не в том смысле. Мне нужна… свобода, что ли, понимаешь? Муж вечно чего-то там требовал… и я вынуждена была сказать ему: знаешь, я так не могу. Давай расстанемся, я не могу. Мне надо… ну, понимаешь? Я ему говорю: мне надо… мне надо, чтоб меня не стесняли. Я должна если уж подчиниться, то сама. А в общем, я внутренне не умею подчиняться.
— Обычная (же) женская песня; пока ее, даму, не скрутил какой-нибудь герой или негерой.
— Нет, ты вот опять ничего не понимаешь. Удивительно все же, как мужчины иногда ничего не понимают. А ты особенно, хотя так самоуверен… уверен в себе.
— Я? Уверен? Опять это.
— Да. Уверен, самоуверен.
— Что мужик ничего не понимает в женщине, это уж ладно. Так положено считать в двадцатом веке. Ничего не понимает в ее сексе и во всем. В душе прежде всего; особо — на русской почве. Анекдот пом…
— Да это я все знаю. Но ты послушай.
Она помолчала.
— Ну вот; я сказала. Больше я, наверное, ничего не смогу сказать.
— Хочешь, я тебе докажу обратное?
— Это о чем?
— Ну, что я ничего не понимаю в женщинах.
— Ну, пожалуйста.
— Хочешь, я скажу, в чем сущность женщины?
— Ну.
— Жалость, ложно направленная.
Она подумала.
— Пожалуй, ты прав, — сказала она спокойно; а ведь я задал этот вопрос не без провокации… — Моя сестра… Она вот практичней меня; а во мне срабатывает материнское начало… И мужчины; мне смешно, когда говорит, желая выслужиться: «Сейчас, я пойду дам ему в морду». Я люблю не тех, кто бьет, а тех, кого бьют.
Странным образом я ожидал от нее (именно от нее этого); не могу сказать, каким способом, но это было связано с ее предшествующими словами, с ее… поведением, «атмосферой»… хотя я и понимал, что и в тех словах ее — еще не вся правда.
— Но они-то — эти, которых бьют, — они-то потом и оказываются наиболее хитрыми: применительно к женщине. И тут-то она и попадается. Кто не жалок внешне, кто скрывает, что он жалок, тот, может, более беззащитен.
— Может, ты и прав, — сказала она задумчиво, внимательно выслушав.
— Женщине надо, чтоб было явно; она все же не знает того, что скромно.
— Ну, тут уж начинается твое… обычное, — сказала она спокойно, чуть трогая губами кофе. — Ты со своими теориями никак не поймешь, что и женщины — разные. А у тебя одни обобщения.
— Это само собой. Но и женщина ничего не понимает в мужчине. Об этом нынче менее принято; но и это — так, — сказал я задумчиво — прихлебывая из стакана без соломинки.
Как бы там ни было, а разговор вдруг ныне клеился, — входил в теплую, в теплую колею; мы перебазировались в иной зал — уселись уютней; угол, тень; мы говорили о том и об этом — на время перестали обсуждать проклятый женско-мужской вопрос, — перешли на темы более ясные и тихие; и этот разговор вдруг оказался более чутким и радостным, чем обычные темы наши, — ее бурная жизнь, мужчина и женщина, характеры общих знакомых; я рассказывал ей о преимуществах тонкой шпаги над толстым мечом, о родной газете, об Италии, где я был десять дней туристом, о ломовой лошади; и поскольку за всем этим стояли и понимание, и радость, и свет, то ей было мило и интересно, и она так и обдавала, омывала мое лицо своими громадными глазами, яркими, одновременно кристальными и влажными глазами; мы сидели; снова вставали те, «старые», темы; и все же было и тихо и весело; я говорил:
— Что ж, ты любишь музыку? Мы как пара не в духе подобных тем; но все же.
— Мне правда стыдно признаться, но в душе я и верно, как принято говорить, люблю классическую музыку; она напоминает мне о моем самом раннем детстве… о чопорности… — отвечала она. — Стыдно же признаться, поскольку я полагаю, что она действительно ни к чему; что она действительно отжила свое. Сейчас секс как таковой — ну, ты понимаешь, я тоже не люблю слова «секс», но другого нет…
— Чувственность.
— Ну… это как-то… ну ладно… Так вот: секс как таковой освободил людей от искусства старого типа. Открытость этого секса. Его разнообразие, свобода полная; и так далее. Ты, наверно, не знаешь, а я знаю нынешних молодых. Самых молодых.
— Мы сползаем назад, — сказал я, улыбаясь.
— Нет, погоди. Я все помню; я не это хочу сказать. Знаешь, какие свободные мальчики — девочки? Массовые формы. Так вот, сама эта… обстановка…
— Атмосфера.
— Ну, атмосфера. Сама атмосфера снимает искусство старого типа. Современная музыка: она доставляет огромную радость. (С каким-то подлинным воодушевлением сказала она!) Она… помогает свободе; помогает радости, ритму. Она не может быть такой, как прежде, — не может быть самостоятельной; она… лишь помогает свободе и… радости…
— Все оно давно написано умными людьми, о твоей современной музыке; но высокое искусство прошлого пережило и это: в последнее время и это уж ясно.
— Нет, вот ты снова хочешь задеть меня, но не хочешь дослушать. Пойми мою мысль.
— Да не хочу я задеть тебя; я тебя люблю и жалею — а ты только и думаешь о том, что я тебя задеваю. Это и есть твоя свобода? Это самый обычный комплекс неполноценности. Не обижаюсь же я-то, когда ты говоришь обидные вещи.