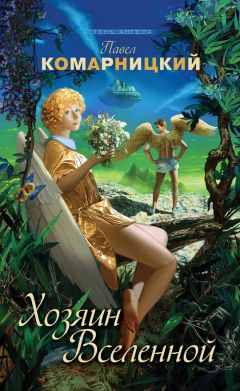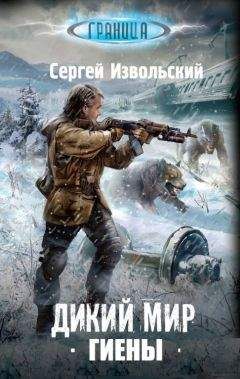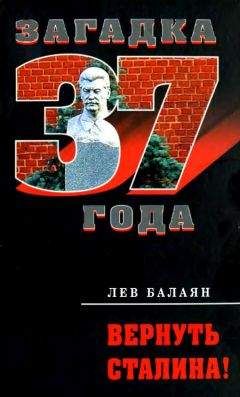Габриэль Руа - Счастье по случаю
Ветер обрушивал на окна потоки искр и копоти. Казалось, весь горизонт, жаждущий избавиться от копоти, не нашел другого места, куда бы сбросить ее, кроме этих плохо пригнанных окон. Азарьюс стоял тут, в пыльной мгле, которая как бы отгораживала его от окружающих, но Роза-Анна знала, что мысли его далеко: ведь и она сама минуту назад вырвалась — или, по крайней мере, пыталась вырваться — из этого дома. Он тихо и рассеянно похлопывал рукой по подоконнику.
Роза-Анна краешком глаза наблюдала за ним. Она понимала, что он просто не заметил, как нервничала Флорентина в последнее время, что он даже и не подозревал о той драме, которая, возможно, разыгрывалась в ее жизни, что он ничего не видел, ни о чем не догадывался, и никогда еще она так не колебалась, порицать ли его или жалеть. В последние дни он словно освободился от какого-то гнетущего бремени. Походка его стала решительнее и тверже. Иногда лицо его омрачалось, но стоило ему заметить, что за ним наблюдают, как взгляд его становился уклончивым и непроницаемым. Он словно таил какую-то скрытую надежду, думала Роза-Анна. И то, что он, невзирая на возраст и на все преследовавшие его неудачи, мог еще так упорно на что-то надеяться, порой раздражало бедную женщину даже больше, чем сознание, что муж не делится с ней своими мыслями. Раз-другой она застигла его врасплох, когда он разговаривал сам с собой: «Ничего иного не остается. Надо решаться». Когда же она спросила, о чем он говорит, Азарьюс одним рывком поднялся с места и без тени смущения шутливо сказал: «Не мешай, не мешай, Роза-Анна. Скоро ты сама все узнаешь. У нас будут деньги — и все пойдет хорошо».
Когда она видела его подавленным, ее сердце тревожно сжималось. Однако жизнь научила ее, что гораздо больше следует опасаться непостижимой молодости его натуры.
На столе лежала газета — Азарьюс теперь ежедневно покупал газету, а иногда и две. Роза-Анна равнодушно взглянула на нее. И прочла набранный крупным шрифтом заголовок: «БЕЖЕНЦЫ В ПУТИ».
— Как и мы — в пути… всегда в пути… — пробормотала она.
Взгляд ее упал на другую строку, чуть ниже: «НОВЫЙ КОНТИНГЕНТ КАНАДСКИХ ВОЙСК ВЫСАЖИВАЕТСЯ В АНГЛИИ». Она машинально посмотрела на дату. Это была вчерашняя газета — от двадцать второго мая.
— Как знать, может быть, скоро наступит очередь Эжена, — проговорила она.
И продолжала про себя: «Эжен… Флорентина… Кто уйдет следующим? Неужели мы больше не будем вместе? Уже?» Она окинула комнату скорбным, усталым взглядом. О нет, здесь они никогда не будут счастливы. Она поняла это в ту самую минуту, как они вошли сюда. Какая новая беда нависла над ней? Тяжелое предчувствие сжало ее сердце. Что-нибудь случится с Эженом! Теперь, стоило слегка притупиться боли очередного горя, она уже ждала нового испытания, ждала чуть ли не с нетерпением, словно, пережив его заранее, она могла хоть немного уменьшить его тяжесть.
— Бедный мальчик! — со вздохом пробормотала она.
Азарьюс вздрогнул. На мгновение ему показалось, что она говорит о нем. В давние времена, чтобы исцелить его от иллюзий или чтобы утешить среди всяческих неудач, она порой шептала ему эти слова, обняв, словно ребенка. Тоскливая жажда нежности волной поднялась из самых глубин его существа, и он понял, что отдал бы жизнь ради того, чтобы еще хоть раз увидеть Розу-Анну счастливой. Он скользнул взглядом по утомленно склонившейся фигуре жены, увидел ее лоб, испещренный сетью мелких подвижных морщин, ее руки, побелевшие от частых стирок. Брак Флорентины начал и в нем самом пробуждать давние воспоминания, и вместе с воспоминаниями в его душе возникла какая-то странная, непонятная тяжесть — она, наверное, всегда была с ним, он тащил ее за собой, как ядро, и она, словно цепь, сковывала все его усилия. И только сейчас он понял это! После первой минуты изумления, когда он уже примирился с тем, что Флорентина стала взрослой и готова вылететь из родительского гнезда, он никак не мог забыть то, что открылось ему в прошлом, то, что он видел позади себя: бесконечную вереницу тянущихся один за другим дней, и промахи, и упущенные возможности. Это было хуже всего. И Роза-Анна!.. Он был уверен теперь, твердо уверен, что за всю свою жизнь никого не любил, кроме нее. Только вот доказать ей этого он никогда не умел. Ну, что ж, настала наконец пора доказать ей свою любовь. И не видеть больше, как она страдает по его вине. Он закрыл глаза. Вот к чему он стремился всеми силами. Уйти… как того требовало чувство справедливости… И не видеть больше ее страданий…
Он хотел заговорить с ней. Никогда еще, быть может, он так не жаждал ей все объяснить, никогда он не испытывал такой потребности оправдаться перед ней, но в эту минуту Роза-Анна уже встала и с усилием, с напускной веселостью улыбнулась Флорентине, которая вошла в кухню.
Потом она вспоминала, что только-только успела взглянуть на Флорентину, одетую для свадьбы, и что они даже не поцеловались.
Флорентина спросила:
— Мама, посмотри, хорошо ли сидит платье?
И Роза-Анна заставила ее медленно повернуться, разглядывая платье и время от времени нагибаясь, чтобы снять кое-где ниточки наметки. Потом Азарьюс потянул девушку к выходу.
— Идем скорее, дочурка, на улице поймаем такси.
Теперь они жили совсем близко от той стоянки такси, где несколько месяцев назад работал Азарьюс. Роза-Анна, сидя у окна, увидела, как они пересекли железную дорогу. Потом она разглядела их в красивой черной машине — Азарьюсу пришла в голову мысль, сделать крюк по улице Дю-Куван, чтобы Роза-Анна могла увидеть их на прощанье.
Она протерла грязное окно, вся подалась вперед и успела различить бледно-зеленое пятно — маленькую шляпку, изящно сидевшую на каштановых волосах, блеск которых был виден даже сквозь стекло машины. Она помахала рукой, но тут же поняла, что это бесполезно — машина уже скрывалась из вида, да и Флорентина вовсе не смотрела назад. Она уехала без колебаний, не помахав рукой, не бросив на дом прощального взгляда. Она уехала так, словно ее здесь ничто не интересовало, ничто не удерживало, подумала Роза-Анна. «Ну, как чужая!» — пробормотала бедная мать, готовая заплакать. И, заметив, что сама она так и стоит, подняв руку, она ощутила такую обиду, что ей захотелось спрятаться куда-нибудь, закрыть лицо ладонями и долго-долго быть одной, совсем одной.
Она резко отвернулась от окна и, присев к столу, оперлась на него, смертельно усталая. У нее хватало домашних дел, забот, которые могли бы отвлечь ее. Вскоре проснутся малыши. Надо будет одеть их, умыть, приготовить к уходу в школу. С Филиппом придется быть терпеливой, воздействовать на него лаской и похвалами, чтобы добиться от него небольших услуг. Да, уж чего-чего, а хлопот у нее хватало. Но она предпочитала думать именно о том, что причинило ей такую острую боль, — об отъезде Флорентины. Пожалуй, ей нужно было сейчас только одно — побыть наедине со своим страданием, вновь переживать и переживать его, упиться им до конца.
Халат распахнулся на ее бесформенном животе. Обнажились распухшие ноги, на которых темными пятнами и бугорками обозначились вздутые вены. И внезапно Роза-Анна всем телом упала на стол, обхватив голову руками. Она уже так давно, так давно не плакала! И сейчас одно только ощущение, что слезы вот-вот готовы хлынуть, принесло ей что-то вроде облегчения.
Но тут в тишине раздались частые шажки. В дверях показалась Ивонна. Она некоторое время стояла неподвижно, робко глядя на мать. Затем порывисто упала перед ней на колени.
Роза-Анна принялась машинально накручивать на пальцы волосы дочери. Через несколько минут, словно поняв наконец, кто перед ней, она слегка отстранила Ивонну и, смущаясь под ясным взглядом девочки, запахнула халат.
— Что тебе, моя Ивонет? — спросила она.
Давно уже она не называла дочь ее детским именем. Подрастая, Ивонна стала молчаливой, серьезной, почти суровой, и временами ее потребность в покаянии и молитве была так велика, что изумляла Розу-Анну. Такая чрезмерная набожность нередко даже огорчала мать. Она иногда нарочно давала Ивонне какое-нибудь дело в доме как раз в ту минуту, когда девочка собиралась незаметно уйти в церковь. «Ты же знаешь, что самый лучший способ служить богу — это помогать родителям», — говорила она, чтобы прогнать складки с упрямого лба девочки. И рассказывала ей притчу о Марфе и Марии. Но так как помнила она ее уже не очень хорошо, то случалось, что путала обеих сестер и кончала так: «Ты же знаешь, Иисус сказал, что это Марфа избрала благую часть». Ивонна на это ничего не отвечала.
Положив голову на колени матери, девочка вдруг тихо заплакала. Растроганная Роза-Анна подумала, что, пожалуй, она не понимала своей дочери и была к ней недостаточно внимательна. Взяв девочку за подбородок, она приподняла ее голову и заглянула ей в глаза. Выражение этих глаз глубоко потрясло Розу-Анну. Вместо затаенного упрека, как это бывало прежде, она увидела в них нежную жалость и даже желание защитить ее.